 |
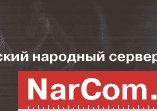 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отечественные исследователи культуры на тему наркотиков пишут мало и неохотно. Тем интереснее предлагаемый отрывок из еще не напечатанной культурологической работы, в которой автор проводит сравнительный анализ творчества двух великих писателей и связь его с темой наркотиков. М. Булгаков и Де Квинси: история одного сюжетаОльга Жук Образ опиомана в художественной литературе и эссеистике XIX и XX явление не вполне обычное, но и не редкое. В основном это литература автобиографическая. Начало этому образу положил английский романтик Томас Де Квинси в своей «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» (1821, полн. Изд. 1856). О Де Квинси в контексте наркотиков, и наоборот, писали много. Нас же интересует эта страница творчества и жизни английского писателя исключительно в контексте с аналогичным сюжетом в творчестве и биографии русского литератора Михаила Булгакова. Рассказ «Морфий» не единственный в булгаковском наследии, где автор обращается к теме наркотиков и наркотической зависимости. Упоминания о немедицинских возможностях использования морфия мы находим в «Записках юного врача» («Вьюга»), в рассказе «Китайская история» (1923 г.), «Записки на манжетах» (1922-1924гг.). В пьесе «Зойкина квартира» (1926 г.) сталкиваемся с зависимым поведением князя Обольянинова и красочным антуражем наркотической субкультуры Москвы 20-х годов – торгующими морфием китайцами-прачешниками. Впервые рассказ «Морфий», тематически продолжающий «Записки юного врача» (нап.
1925-26 гг.), был опубликован в 1926 году, в том же, что и «Записки» журнале
«Медицинский работник». Исследователи творчества Булгакова полагают, что
«Морфий» – вариант уничтоженного им сочинения «Недуг». Рассказ Булгакова связан
с биографическими обстоятельствами жизни художника. В 1916–1917 годах он работал
врачом в земской больнице Смоленской губернии, сначала в селе Никольском, а
затем в Вязьме. Это была Как и английский романтик, Томас Де Квинси, Михаил Булгаков впервые принял наркотик, как обезболивающее. Вот, что пишет со слов первой жены писателя Татьяны Николаевны Лаппа исследовательница творчества Булгакова М. О. Чудакова: «В то время, когда они жили в Никольском, произошло, как рассказывала нам Татьяна Николаевна, следующее: отсасывая через трубку дифтеритные пленки из горла больного ребенка, Булгаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтерийную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда, болей он не мог спать и попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа зуда и связанной с ним бессонницы. Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло привыкание... Болезнь развивалась, борясь с ней, он нередко впадал в угнетенное состояние: «Я целыми днями ревела» – вспоминала Татьяна Николаевна». Томас Де Квинси, согласно автобиографическому роману «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум», впервые попробовал лаудан (опийная настойка) в возрасте 19 лет, будучи студентом Оксфорда, желая хоть как-то успокоить невыносимую ревматическую головную и лицевую боль. С тех пор в течение десяти лет он нерегулярно употреблял лаудан и опиум: не чаще чем один раз в три недели. Затем срок между приемами наркотика сократился до недели. И вскоре, Де Квинси стал принимать опиум ежедневно: так, через десять лет употребление опиума приобрело характер злоупотребления. Период, когда Де Квинси принимал лаудан ежедневно и в таких дозах, которые раннее могли бы убить его, длился восемь лет. Конечно, во время этого срока, были попытки освободиться от зависимости, но физические и душевные страдания, появляющиеся вследствие отказа от опиума, были столь невыносимы, что поэт вновь возвращался к «пагубной привычке». Герой рассказа доктор Поляков – нарратив, alter ego автора, впервые обратился к морфию, страдая от невыносимых, неизвестного происхождения болей в животе. Поляков записывает в своем дневнике: «Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли: (дальше следует рисунок кривой боли – О. Ж.) Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, – без мыслей о моей, обманувшей меня». Так же как Де Квинси, доктора Полякова (здесь отожествление с Булгаковым неуместно) будоражит навязчивая идея о покинувшей его любимой. Де Квинси одержим поисками проститутки Анны, с которой его связывали трепетные чувства в ранней юности, Поляков – мыслями о покинувшей его через год совместной жизни жене – оперной певице Амнерис. Опиаты, как ничто другое, позволяют предать забвению мучившую доселе душевную боль (см. Гомер «Одиссея», IV, 221-225), или преобразовать ее в сладостные сновидения. Европейская культура еще со времен античной Греции и вплоть до XIX века относилась к опиуму как к уникальному средству, помогающему при всех болезнях, в особенности от боли. Медицина имела в виду боль физическую. Поэзия – боль душевную. Де Квинси был первым, кто показал амбивалентность и трагичность внутреннего мира и повседневной жизни опиомана. В «Исповеди» он не только воссоздает чувства удовольствия и сладости опийного опьянения, но – боли и отчаяния зависимого человека. Обратимся к трем описаниям грез, тем состояниям, которые могут быть вызваны только опиатами – между сновидениями и реальностью – Булгакова, Де Квинси, Гоголя. Булгаков «Морфий»: Де Квинси «Исповедь»: «Это она! – думал я. Наконец я ее видел! Привставши, тщетно искал ее в толпе.
Странное видение! Ужели я ошибся? Тот был бы в глазах моих безумцем, кто сказал
бы, что я ее увижу здесь и в таком виде. Гоголь «Невский проспект»: «Приемы опиума еще более раскаляли его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он. Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрой в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! Она склонила к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал». Не правда ли – как близки по духу и образности эти описания? Мечты Полякова, Де Квинси, Пискарева. Сходство это вызвано общим стимулом, побуждающим такие сновидения – опиумом (морфином). Здесь встает вопрос о возможном влиянии Де Квинси на Гоголя. Читал ли Гоголь «Исповедь»? Впервые «Исповедь» была опубликована в 1821 г., на русском языке появляется в 1834 году (в искаженном виде под именем ирландского писателя Матюрина). «Невский проспект» же впервые появился в печати в 1835 году в книге «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». Замысел же повести возник не позднее 1831 года, работа закончена где-то в середине 1834 года. В какой-то мере близость сочинений Де Квинси и Гоголя определяется и принадлежностью обоих к литературному романтизму. Но в главном – в опийном восприятии «реальности» героем «Исповеди» – писателем Де Квинси и героем «Невского проспекта» – художником Пискаревым. Литературовед В. В. Виноградов еще в двадцатые годы обратил внимание на особую роль опиума в романтической литературе и, между тем, он настаивал на факте прямого влиянии Де Квинси на Гоголя. Виноградов писал: «И вообще опиум как средство романтического воодушевления играл значительную роль в литературе того времени. /.../ Так в романтической литературе опиум возвращал мечтателю его воздушные замки. И к Гоголю мотивы об опиуме могли прийти как привычные формы литературной «действительности» его эпохи из других источников, помимо «Исповеди опиофага». Однако в структуре «Невского проспекта» есть как будто более убедительные указания на связь отдельных ситуаций и сцен этой повести с романом Де Квинси. Но мог ли Гоголь знать этот роман до того, как сложился в его сознании сюжет «Невского проспекта»? /.../ Между тем цензурное разрешение на печатание перевода романа de Quincey помечено датой – 21 августа 1834 г. Следовательно, роман не мог попасть в руки русских читателей раньше августа – начала сентября. /.../ До 9 ноября 1833 г. у Гоголя было лишь «сто разных начал и ни одной повести, и ни одного даже отрывка, годного для альманаха» (Письма Гоголя, т. I, стр. 262). В письме к Погодину от 19 марта 1834 г. он признается, что ничего не может прислать по своей лености и «во сне времяпровождению» (стр. 284). На лень и непродуктивность работы Гоголь продолжает жаловаться в письме к И. И. Срезневскому от 1 июня 1834 г.: «летом я ничего не делаю, кроме лежанья». /.../ Проповедью лени и ничегонеделанья дышит письмо к Максимовичу от 27 июня. Таким образом, схема «Невского проспекта» едва ли вполне определилась у Гоголя раньше июля – августа 1834 г. А окончательную обработку «Невский проспект» мог получить, как предполагает Н. С. Тихонравов, только в конце октября или в первой половине ноября 1834 г. «Исповедь англичанина», конечно, к тому времени уже была прочитана Гоголем в русском переводе». Буквально прямые параллели мы находим в сценах: мечты обоих героев о тихом семейном счастье и их фантазии о бале у возлюбленной. Мы не знаем, читал ли Булгаков Де Квинси. Тем не менее, интересны параллели в жанровых особенностях обоих сочинений. Непосредственная исповедь – у Де Квинси. И – завуалированная у Булгакова (дневник-исповедь Полякова является лишь частью рассказа). Через две недели после первого впрыскивания морфия, а они теперь следуют ежедневно, доктор Поляков записывает в дневнике свои ощущения: «Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека». Поначалу Де Квинси воздает настоящую хвалу опиуму: «О сладостный, всепроницающий и всемогущий опиум! Ты, изливающий бальзам на пламенные язвы, утешение на бесконечные печали; ты, который на одну ночь поселяешь в душе преступника надежды юности, омываешь его руки от крови человеческой…». Де Квинси называет состояние опийного опьянения «божественным наслаждением», «совершенствованным интеллектуальным удовольствием». Через много лет после первого приема опиума Де Квинси вспоминает: «И через час, о! Небо! Какая перемена. Из глубочайшей бездны перенестись на высоту небесного величия! Чувствовать в душе внутреннее откровение! Прекращение боли было следствием ничтожным; такое отрицательное действие исчезало во множестве действительных наслаждений». Или в другом месте, сравнивая состояние, вызванное алкоголем и опиумом: Для обоих, и для Булгакова и для Де Квинси, опийная эйфория связана с наивысшими проявлениями человеческой духовности и душевности. Можно ли отожествлять героя «Морфия» Полякова и Булгакова? В случае романа Де Квинси – литературный герой «Исповеди» – сам автор, но он тоже не абсолютно тождественен поэту. Известно, что в произведениях, написанных с целью публикации, и даже в интимных дневниках, для печати не предназначенных, авторы, в большей или меньшей степени, ориентируясь на гипотетического читателя, приукрашивают свой образ. Поляков и Булгаков равны в своем отношении к морфию, в восприятии кайфа и ломок, в совпадении основных жизненных коллизий. Поляков – alter ego писателя, но все же не Булгаков. Оба героя – Поляков и» литературный» Де Квинси – герои, которым свойственен внутренний конфликт, характерный для интеллектуальных героев психологической литературы XIX и начала XX веков. В то же время, герой Де Квинси – герой романтический, всецело принадлежащий романтизму и романтической литературе. Поляков – герой психологической прозы XX века, той прозы, которая еще несет на себе все особенности психологической прозы XIX века, но уже приближается к новой непсихологической прозе, господствующей в XX столетии. Историк литературы и писатель Л. Я. Гинзбург, анализируя особенности внутреннего конфликта литературного персонажа психологической прозы и внешнего конфликта литературного персонажа допсихологической прозы и современной непсихологической прозы, пишет: «На нашей памяти конфликт литературного персонажа стал опять внешним конфликтом, как во времена допсихологические. Внутренний конфликт психологической литературы XIX и начала XX веков был свободным конфликтом в том смысле, что интеллектуальный человек, – не довольствуясь сопротивлением вещей и обстоятельств, – сам создавал его и сам разрешал (по возможности)». У Полякова наличествует внутренний конфликт, «свободный конфликт», но в то же самое время он ведом неизвестными, почти фатальными силами (революция, страсть к морфию), другими словами, его конфликт является и внешним конфликтом. Между тем Полякова сближает с героями литературы XIX века, включая «литературного» Де Квинси, то, что он герой интеллектуальный и то, что он страдает от неразделенной, несчастной любви. «Литературный» Де Квинси – герой детерминированный, из области «среда заела», еще больше обусловлена социальной средой проститутка Анна. Литература XIX века была убеждена, исчезнет социальная несправедливость, исчезнут пороки общества. Де Квинси не составляет исключения. Л. Гинзбург писала: «Полярный сатире психологический анализ XIX века брал человека в целом и изнутри. Без остатка детерминировав поведение, он снял с личности вину и возложил ответственность на среду, обусловившую человека». Поляков у Булгакова несет больше ответственности, чем герой Де Квинси. Это справедливо с точки зрения литературоведческого взгляда. Если отбросить такого рода инструментарий, от средств искусства и литературы перейти к общегуманитарной, человеческой апперцепции, то оба литературных персонажа, что герой Де Квинси, что герой Булгакова – безответственны, ибо одержимы страстью, опиоманией. Интересно, что «XIX век редко изображал физические страдания, не считая их типичными». Физические страдания в совокупности с психологическими, душевными играют значительную роль не только у Булгакова, но и у Де Квинси. Правда, в «Морфии» они описываются подробнее и физиологичнее, чем в «Исповеди». Меньше чем через месяц (Де Квинси понадобилось на это 10 лет употребления и несколько лет злоупотребления) Поляков, не забудем, что он врач и рядом с ним еще была и фельдшер и «тайная жена» (по его выражению) Анна Кирилловна, первая почувствовавшая опасность, еще и обостренную комплексом вины, т. к. именно она впервые впрыснула Полякову морфий, герой булгаковского рассказа решил бороться с опийной зависимостью. Поначалу он делает это следующим образом: пытается заменить морфий кокаином. Именно так в 1883 году Зигмунд Фрейд начинал «лечить» от морфинизма своего друга и коллегу Эрнста Фляйшла фон Мархова (Ernst Fleischl von Marxow), что привело последнего к двойной зависимости и вскоре наступившей трагической развязке. Итак, уже во второй половине восьмидесятых годов XIX столетия, когда началась первая кокаиновая эпидемия, стало понятно, что кокаин еще более опасен, чем морфин, а самые ужасные результаты действия кокаина наблюдаются у морфинистов. Тем не менее, доктор Поляков повторяет ошибку Фрейда. Последствия сказались молниеносно. Между 9 апреля и 1З впервые появляется запись о кокаине: «Черт в склянке. Кокаин – черт в склянке! Действие его таково: При впрыскивании одного шприца 2%-ного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма». А вот запись от 13 апреля: «Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд». Дневник доктора Полякова, как и «Исповедь» Де Квинси напоминает историю болезни, только не казенную медицинскую, безличностную, а яркую, индивидуальную, никого не оставляющую равнодушным. Быстрота и интенсивность болезни Полякова, в отличие от Де Квинси, вызвана еще и несколько иными фармакологическими особенностями морфина по сравнению с опиумом и способом его приема – подкожной инъекцией. Доза Полякова быстро растет, частота приемов усиливается. Между приемами наступают тяжелые состояния, обусловленные незначительным, но вынужденным воздержанием от наркотика. Пока он еще внимателен к больным и безукоризненно выполняет свою работу. Но его беспокоит, что коллеги могут догадаться о его «пороке» (так же как и Де Квинси он считает свое заболевание «пороком»). Поэтому Поляков делает существенные паузы между приемами морфина, чтобы медицинский персонал не обратил внимания на его узкие зрачки, характерные для опийного состояния. Вскоре Поляков решает серьезно бороться со своим недугом. И он испытывает
настоящие, невыносимые ломки. В этом состоянии, читая медицинский учебник и
цитируя строки об абстинентном синдроме морфиниста, который характеризуется как
«тоскливое состояние», он комментирует их следующим образом: Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего этого нельзя определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!» И в конце этой дневниковой записи подводит итоги: «Смерть – сухая, медленная смерть... Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние». Де Квинси неоднократно пытался избавиться от «пагубной страсти»: «Могу уверить читателя, что я не раз покушался умалить приемы опиума. Многие видя мои страдания от сих покушений, просили меня убедительно оставить оные. /…/ Но тут ощущаешь страшную боль или, лучше сказать, ничем не укротимое бешенство желудка, сопровождаемое тяжелым дыханием и такими страданиями, что я напрасно старался бы их описать». Лет через десять Де Квинси окончательно понимает трагизм своего положения, обратную сторону наслаждения – зависимость. Через восемнадцать лет в «Исповеди» он не только вспоминает пленительные минуты – божественный дар опиума, но и подводит итоги своим заблуждениям: поэт признает, что опиум это не только то упоительное состояние, что «соответствует любому чувству, как и отмычка любому замку»; он уже не воздает хвалу опиуму наподобие «воистину владеешь ты ключами от Рая», наркотик теряет для него и свою двойственную привлекательность как «источник неизъяснимого блаженства и ужасающих страданий». К этому времени опиум становится для Де Квинси исключительно пыткой, недаром третью главу своего труда он называет «пытки опиумом» («горести опиума»). Он осознает, что, потерпел полное фиаско, что, нет более возможностей и сил продолжать, что наступил предел сосуществованию с опиумом. Он с абсолютной ясностью дает себе отчет как тяжело прекратить прием опиума раз и навсегда, как желаемое расходится с действительным. И, что этот конфликт между намерениями и их осуществлением – тоже следствие болезни, которые мы сейчас называем зависимостью. «Впрочем, употребляющий опиум ничего не теряет из всей нравственной чувствительности. Он желает, надеется и ожидает с той же живостью, как и прежде; но возможное часто превышает его силы, и он не только не может его исполнить, но даже и решиться…». Итак, прошло восемнадцать лет, с тех пор как Де Квинси начал употреблять опиум, из них восемь лет он злоупотреблял им, и писатель снижает дозу от 1000 капель лаудана в день до 180-300. С адскими мучениями, с возвратами назад к предыдущей дозе, он, тем не менее, идет к намеченной цели. В редакцию «Исповеди»1822 года Де Квинси включает и подробные ежедневные записи от июля 1822, из которых мы видим как автор, наконец, редуцировал дозу до нуля. Для сравнения приведем описание синдрома отмены героина, рассказанное автору этих строк нашей современницей: «Я знала боли разные: физические и душевные. Было тяжело их перенести, но я терпеливо переносила. Здесь же боли не только физические, и не только душевные. Если бы одни из них… Причем боли из-за вещества. Когда тебя ломает, ты больше не хозяин своего тела, оно разрегулировано. Ты теряешь состояние целостности как личность. От чего мучительно страдаешь. Нормальный человек не замечает, как его организм функционирует: желудок, сердце и т. д., он не придает этому чуду никакого значения. Главное – нарушается обмен веществ, так как наркотик входит в обмен веществ. Вместо крови – нарзан. Ты кожей ощущаешь произошедшие с тобой перемены. Ты чувствуешь себя как липкий червяк в грязи. Ты абсолютно бессилен. Ты более не отвечаешь за свое тело. Кроме того, страх. Нет, ты не боишься чего-то конкретного. Это – не ужас. Просто теряется смысл твоего существования. Ты ничего больше не можешь. Так как теряется смысл твоего существования: экзистенциальный и конкретный, то тебя больше нет. Теряется смысл того, ради чего ты это делал, ты делал это ради жизни. Нет наркотика, нет жизни, нет смысла больше жить. Это вещество, это частичка тебя, нечто входящее в твой обмен веществ, без чего ты больше не можешь жить. Речь идет не только об удовольствии оттого, что ты живешь, просто о жизни. Ибо без наркотика ты не живешь». Каждый зависимый от опиатов знает состояния, испытываемые Де Квинси доктором Поляковым. Это – действительно «смерть – сухая, медленная смерть». Это – одновременно грипп, желудочные колики, лихорадка, кровавый понос и рвота, словом, все известные, когда-то пережитые больным недуги. Но это еще не все, кроме того, тоска – невыразимая никакими обычными словами душевная боль пронзает каждую клеточку твоего тела. И ты знаешь, что эти мучения можно прекратить здесь и сейчас, мгновенно – сделав укол наркотика. И такое знание отнимает у тебя последние силы, делает твои страдания совершенно бессмысленными, твои усилия абсолютно бесполезными. И... Все сначала... Не выдерживал Де Квинси, не выдержал и Поляков. А как поступили бы Вы? «Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой... Три шприца 3%-ного раствора. Этого мне хватит до полуночи...». И все, как и у остальных, начинается сначала. Поляков в этом ряду не первый и не последний. Вместе с облегчением вступает в силу и типичный для зависимого самообман: «брошу, но не сейчас». «Вздор. Эта запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!...». И, действительно, через несколько месяцев, отчаявшись, справится с болезнью
самостоятельно, доктор Поляков отправляется в Москву в лечебницу. Там его
застает Октябрьский переворот. Вернувшись, домой, после побега из стационара он
записывает в дневнике: Так коллизии в личной биографии Полякова, так же как, с теми или иными поправками, и в биографии Булгакова, переплетаются с катаклизмами исторической судьбы России. Авторы комментариев к рассказу «Морфий» справедливо отмечают, что: «События, переворачивающие российскую жизнь, совпали с тяжелейшей личной коллизией, и это, возможно, помогло выбрать нужный автору сюжетный ход – отстраняющий героя от событий. Примечательно, что первую инъекцию наркотика герой рассказа делает за неделю до начала революционных событий (в феврале 1917 года) – будто заранее готовя себе анестезию. События февраля – марта, а затем октября – ноября 1917 года восприняты сквозь дымку помрачающей сознание героя болезни». Поляков не просто сбежал из лечебницы, он прихватил с собой еще морфий. Так доктор Поляков стал вором. Он записывает в дневнике: «Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А? По совести? Взломал бы». И в этом осознании доктор Поляков абсолютно адекватен ситуации опиомана в состоянии ломок. И он честно признает это. Уильям Берроуз – американский писатель-битник, нонконформист, автор таких автобиографических романов как «Джанки. Исповедь неисправимого наркомана» (1953) и «Голый завтрак (1959) так охарактеризовал поведение junkie в еще более жесткой ситуации современного черного рынка, когда человек способен на все: «Джанк – это идеальный продукт... абсолютный товар. В торговых переговорах нет необходимости. Клиент приползет по сточной канаве и будет умолять купить... Торговец джанком не продает свой товар потребителю, он продает потребителя своему товару. Он унижает и упрощает клиента. Он платит своим служащим джанком. Джанк соответствует основной формуле вируса «зла». Алгебре Потребностей. Лик зла – это всегда лик тотальной потребности. Наркоман – это человек, испытывающий тотальную потребность в наркотике. При частом повторении потребность становится беспредельной, над ней утрачивается контроль. Пользуясь терминами тотальной потребности, спросим: «А вы бы не стали?» Да, стали бы. Вы стали бы лгать, мошенничать, доносить на своих друзей, красть, делать все что угодно, лишь бы удовлетворить тотальную потребность. Потому что вы находились бы в состоянии тотальной болезни, тотальной одержимости и не имели бы возможности действовать каким-либо другим способом. Наркоманы – это больные люди, которые не могут поступать по-другому. У бешеной собаки нет выбора – она кусает». Из интервью автора с нашей современницей: «Нет, я не согласна с Берроузом. Не каждый станет делать ради наркотиков все: «лгать, мошенничать, доносить на своих друзей, красть, делать все что угодно, лишь бы удовлетворить тотальную потребность». Берроуз знает то, о чем пишет, но у меня другой опыт. На основании которого, я считаю, что для каждого человека существует свой предел. Каждый имеет свои представления, ценности, принципы. Если человек сформировался как личность, то на что-то он пойдет, на что-то – нет. Скажем, я не могу переступить через определенную черту: причинить физическую боль другому человеку или предать, чтобы поправиться. Я знаю, стоит тебе сделать только один шажок, и… Кто-то пойдет на все… Человек раскрывается как в любой экстремальной ситуации (война, тюрьма, армия). Только ты живешь в мирной, обыденной жизни, но в экстремальном ее варианте. Я точно знаю, раз украл, раз ударил, второй, а потом все проще и проще украсть, ударить. Возвращаясь к Берроузу, нет человек, употребляющий наркотики, далеко не всегда находится в «состоянии тотальной болезни, тотальный одержимости». Конечно, он болен, но все-таки способен себя контролировать, так же как человек способен контролировать любую болезнь, если он не окончательно сумасшедший. Я знаю твердо, существуют какие-то вещи, на которые я не пойду. Господствующая в современном обществе политика прогибиционизма по отношению к наркотикам, изначально ставит человека их употребляющего по ту сторону закона. Прибегая к наркотикам, ты преступаешь закон и ты готов преступить закон. Но закон закону рознь. Ты преступаешь написанный закон, но не сформированный в тебе. Человек болен, безусловно, болен. В кровь, в обмен веществ вошло дополнительное вещество. Но твой ли это выбор? Каждый ставит для себя рамки, ограничения, такие же, как поставил бы другой – лишенный воды, например. Что бы он сделал, для того, чтобы утолить жажду. Наркотик – катализатор. Человек, зависимый от наркотиков, ярче раскрывает свою сущность. У кого-то высокая планка, у кого-то низкая…». Когда на следующий день после побега Поляков вернулся в клинику, чтобы получить обратно расписку об обязательстве пройти двухмесячный курс лечения, профессор предупредил его, что вскоре, но уже в более плохом состоянии он все равно попадет в психиатрическую лечебницу и, что практиковать ему нельзя. Зависимому человеку, находящемуся в состоянии заблуждения, свойственно переоценивать свои силы, зачастую признавая за собой одну слабость, но, не признавая другую. Доктор Поляков – не исключение. Он записывает в дневнике: «Итак, доктор Поляков – вор. Страницу я успею вырвать. Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда». В записях Полякова самоуничижение чередуется с самообманом. Это - клиническая картина опийной зависимости. Да, пока Поляков может работать, но надолго ли это? До первых проблем с добыванием морфия, до первых симптомов ломок. В то же время, записи Полякова становятся все более отрывочны, мысль скачет, логика в анализе ситуации страдает, они полны противоречий. Он и сам обращает на это внимание, только выводы не всегда делает правильные: «Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво». Предупреждения профессора из московской лечебницы начинают сбываться. Поляков не уникум, он такой же, как все. Клиника болезни у всех морфинистов, у всех опиоманов одинаковая. По большому счету, человеку, зависимому от опиума не нужен никто. Французский символист Шарль Бодлер в своем трактате о наркотиках «Искусственный рай» (1860 г.) называл такое состояние «брак с самим собой». «У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, - способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...». У Полякова состоялся тяжелый разговор с Анной. Вот выдержки из дневниковой записи диалога: «Анна (печально). – Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис – жена? Я. – О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее. Вместо нее – морфий». Поляков очень ценит Анну и по-своему ее любит. Но настоящая привязанность, страсть, любовница и жена, подруга жизни – морфий. Современник Михаила Булгакова немецкий писатель Ганс Фаллада в рассказе «Тематический отчет о счастье быть морфинистом» обращался к морфию «моя сладкая подруга» («O du meine süße Freundin...»). Поляков – худ, бледен, у него дрожат руки, время от времени его охватывает неудержимая рвота с икотой, его уже посещали галлюцинации, на предплечьях рук и на бедрах непрекращающиеся нарывы от не стерильных уколов и растворов. Он собирается к середине февраля ехать лечиться в Москву. Но раздумывает. Последняя надежда на товарища по университету доктора Бомгарда: 11 февраля Поляков отправляет ему записку с просьбой о помощи. Но видимо он и не рассчитывает на спасение, так как гипотетически восклицает: «Люди! Кто-нибудь поможет мне?». Опять сродни гоголевскому, только из «Записок сумасшедшего»: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!». Бомгард не успевает доехать. 13 февраля доктор Сергей Поляков кончает с собой. Вот его предсмертная записка: «Милый товарищ! Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте. Ваш С. Поляков». Бомгард не только прочел историю болезни Полякова, но и опубликовал ее. Дневник доктора Полякова – составная часть рассказа «Морфий», написанного от лица Бомгарда. С другой стороны, история доктора Полякова, это история доктора Булгакова, только имеющая иной финал. Для Булгакова-литератора она – предупреждение других, Булгакова – во всей совокупности его личных и профессиональных характеристик – предупреждение по отношению к себе, ибо он прекрасно понимал, вероятность своего не менее драматического финала. Об этом периоде жизни Михаила Булгакова биографы и исследователи его жизни и творчества знают в основном по рассказам его первой жены Татьяны Кисельгоф (урожд. Лаппа; 1889-1982). Американская исследовательница Эллендея Проффер – владелица легендарного издательства «Ardis», предлагает нашему вниманию следующую информацию о «наркотической» эпопее Булгакова. В селе Никольском, а затем в Вязьме, Татьяна Лаппа находилась неразлучно с Михаилом Булгаковым, так как была не только женой, но и ассистентом врача. По существу же являясь «женой, прислугой, медсестрой и секретарем». В какой-то мере, Лаппа послужила прототипом образу фельдшера Анны Кирилловны из рассказа «Морфий». Любящая, преданная, страдающая, как бы мы сейчас сказали, «созависимая». Сюжет реальной истории таков. В селе Никольском можно было брать из больничной аптеки сколько угодно морфина, так как это оставалось незамеченным. В Вязьме же, морфин был подотчетен, и как-то надо было выходить из положения. Тогда Булгаков стал прибегать к разным ухищрениям, свойственным зависимой личности, в ход были пущены типичные трюки junkie. Он засылал Тасю Лаппу в близлежащие аптеки с выписанными на вымышленные имена рецептами. Продолжал он посылать жену в аптеку за морфием и в Киеве. Когда же она отказывалась выполнять просьбы такого рода, он приходил в неистовство, становясь абсолютно невыносимым, невозможным. Однажды он приставил к ней браунинг, а в другой раз запустил в нее горячий примус. М. Чудакова еще более подробно пишет об истории с браунингом: «Однажды, рассказывала Татьяна Николаевна, бросил в нее горящий примус, в другой раз – целился из браунинга. «Ванька и Коля вбежали, вышибли у него браунинг... Они не понимали, в чем дело... Спрятали потом куда-то этот браунинг. Конечно, он бы не выстрелил, просто угрожал... Ему самому было очень плохо, он мучился». Казалось, что, рассказывая спустя шестьдесят лет, она жалела его так же, как в те месяцы. Ей он обязан был избавлением от болезни. Она стала обманывать его, впрыскивать дистиллированную воду вместо морфия; терпела его упреки, приступы депрессии. Постепенно произошло то, что бывает редко, – полное отвыкание. Как врач, он, несомненно, хорошо понимал, что случившееся было почти чудом». Позволим себе усомниться, что вместо морфия можно незаметно впрыскивать дистиллированную воду. Разбавлять морфий дистиллированной водой – да, оставляя, таким образом, количество раствора прежним, но уменьшая его концентрацию, тем самым плавно и психологически не столь болезненно редуцируя дозу. Этот способ хорошо известен и в свое время имел широкое применение. Де Квинси пользовался подобным приемом, разбавляя водой лаудан. Однако, так или иначе, но Татьяна Николаевна добилась желанного результата. В данном случае, у нас нет оснований, скорее фактов утверждать обратное, произошло чудо. На основании рассказов первой жены писателя, М. Чудакова делает очень серьезные выводы, с которыми мы не можем не согласиться, о том, что рассказ «Морфий» писался Булгаковым еще во время страданий от болезни. Более того, исследователь полагает, что все события рассказа, за исключением трагического финала, были пережиты писателем. Все это опять возвращает нас к «Исповеди» Де Квинси, которая создавалась в состоянии болезни. М. Чудакова пишет: «По-видимому, еще в Вязьме он писал сочинение под названием «Недуг». В 1978 году Татьяна Николаевна, рассказывая нам о тяжелых проявлениях болезни, пик которой пришелся на 1918 год, сказала: «Недуг» – это, по-моему, про морфий». Таким образом, то, что мы знаем сегодня как большой рассказ «Морфий», начато было даже не по следам пережитого, а в процессе тяжело переживаемой болезни. /.../ Мы предполагаем, во-первых, что Булгаков мог поехать в Москву тайно от родных – ранее даты, сообщенной им впоследствии, – с тем, чтобы попытаться провести какое-то время в клинике у коллеги-врача или, во всяком случае, проконсультироваться». Похоже, Булгаков побывал в Москве в психиатрической больнице. На это указывают его навязчивые тревожные мысли, что жена отправит его в клинику для душевнобольных. Еще в Вязьме, измученный болезнью, сопровождающейся страхами, что о ней узнают окружающие, комплексом вины и, наконец, депрессией, он просительно восклицал: «Ведь ты не отдашь меня в больницу?». Страх оказаться в психиатрической лечебнице продолжался и по приезде в Киев. «Напомним, что ранней весной 1918 года Булгаков приехал в Киев в очень тяжелом состоянии – после неудачных попыток излечиться (нашедших, по-видимому, достаточно адекватное отражение в рассказе «Морфий»). Состояние это наблюдала воочию во всех деталях, по-видимому, только его жена. «Когда мы приехали – он пластом лежал... И все просил, умолял: «Ты меня в больницу не отдавай!» – Какой же он больницы боялся? – «Психиатрической, наверное... Стал пить опий прямо из пузырька. Валерьянку пил. Когда нет морфия – глаза какие-то белые, жалкий такой. Хотела уйти куда-нибудь, да посмотрю – жалко...». В Киеве 1918-1919 года страдания Булгакова не ослабевали, терпеливо страдала и Татьяна Николаевна. Жили в доме Булгаковых на Андреевском спуске. Семейные предания сохранились в памяти И. Л. Карум – дочери сестры Булгакова Варвары и Л. С. Карума (см. образ Тальберга в «Белой гвардии). В письме она сообщала автору «Жизнеописания Михаила Булгакова» следующую информацию на интересующую нас тему: «Когда в 1918 году он (Л. С. Карум – О. Ж.) с мамой жил одной семьей с Булгаковыми, он никак не мог согласиться с образом жизни дяди Миши и тети Таси, которые могли в один миг выбросить, как говорил папа, только что полученные деньги «на ветер». Жили ведь «одним котлом». /.../ Совершенно шокировал папу и прием Михаилом Афанасьевичем морфия! Теперь, когда у нас в стране открыто описывают состояние морфинистов в тот момент, когда нет у них наркотиков, можете себе представить, что происходило с дядей Мишей! /.../ Ну, подумайте сами, как мог реагировать на это высоко интеллигентный, спокойный, трудолюбивый папа, горячо любящий мою маму и старающийся оградить ее от подобных сцен! У него не укладывалось в голове, что работали сестры Михаила Афанасьевича, его жена, а он жил на их счет, ведя фривольный образ жизни! Конечно, в тот период отношения между папой и Михаилом Афанасьевичем были натянутыми, но мой отец ценил талант шурина /.../ Он очень жалел тетю Тасю, к которой М. А. относился высокомерно, с постоянной иронией и как к обслуживающему персоналу...». Оставим в покое «фривольный образ жизни» Михаила Афанасьевича, для нас важно иное – морфинизм Булгакова, да и вся социально-психологическая канва болезни, не прошли незамеченными для ближайшего окружения. С формальной точки зрения И. Л. Карум, характеризуя со слов отца состояние Булгакова и его отношения с женой, права в своих оценках. Но вряд ли кто-то из семьи Карумов и других домочадцев – обитателей дома №13 по Андреевскому спуску понимал всю трагедию Булгакова и его жены. Страдающий от тяжелого недуга Михаил Афанасьевич не мог относиться к созависимой Татьяне Николаевне иначе, как к «обслуживающему персоналу». Такое поведение – часть данной болезни, оно является составляющей общей картины, ее неотъемлемой характеристикой. Зависимый от опиатов человек – эгоистичен и глубоко несчастен в своем эгоизме. По отношению к близким людям, которые в полной мере разделяют его страдания, по современной терминологии – созависимым, он требователен и жесток. Стереотипы зависимого поведения закрепляются, и если даже чудом человек освобождается, как Булгаков, от болезни, мы бы сказали, перестает быть активным зависимым, он зачастую продолжает вести себя по-прежнему. Такого рода поведение относится в первую очередь к свидетелям страданий. Поэтому и некое высокомерие, и ирония, и потребительство сохранились у Булгакова применительно к первой жене и в более поздний – московский – период их совместного существования. Рассказ «Морфий» играет в творческой биографии Михаила Булгакова большую роль. Похоже, что именно с него начался систематический литературный труд будущего писателя. Обратимся к записанным М. Чудаковой воспоминаниям Татьяны Лаппа: «Именно в Вязьме, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, он начал более или менее систематически писать – в Никольском это удавалось только урывками. «Я спросила его как-то: «Что ты пишешь? – Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная, скажешь, что я болен». Я знала только название – «Зеленый змий», а читать он мне не дал...» Возможно, речь шла о том рассказе «Огненный змей», который по воспоминаниям сестры, был начат еще в Киеве, либо о набросках будущего «Морфия». К наброскам будущего «Морфия», в то время сочинения под названием «Недуг», Булгаков относился очень серьезно и трепетно. В апреле 1921 года, еще не потеряв надежды попасть заграницу, он писал из Владикавказа сестре Наде в Москву: «На случай, если я уеду далеко и надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кой-какие рукописи: «Первый цвет», «Зеленый змий», а в особенности важный для меня черновик «Недуг». Я просил маму в письме сохранить их. Я полагаю, что ты осядешь в Москве прочно. Выпиши из Киева эти рукописи, сосредоточь их в своих руках и вместе с «самообороной» и «турбиными» в печку. Убедительно прошу об этом». Эти первые его сочинения, вне сомнений, были дороги автору, в особенности, посвященные зависимости «Зеленый змий» и «Недуг», но приговор был суров «в печку». И тут опять вспоминается Гоголь... И последнее. Де Квинси всецело принадлежал к литературному направлению романтизму. Он – не единственный из романтиков, кто употреблял наркотики, тем более не единственный, на творчество которого они оказали существенное влияние. В целом, идеологии и эстетике романтизма свойственны поиски новых идеалов в иллюзорном мире мечты и фантазии. Теоретики и художники, в особенности литераторы романтического направления в философии, эстетике, литературе и искусстве, большое значение уделяли свободе личности и свободе человеческого духа. Они противопоставляли личность обществу, возвышали искусство над жизнью, тяготели к мистике, поэтизировали отдаленные страны и эпохи. Это была своего рода эстетика соединяющая мечту и опьянение. Опиум как ничто другое давал ощущение жизни между сном и явью, миром фантазии и миром реальности. Он приносил успокоение для мятущейся души и радостное забвение. Горькое чувство от несоответствия между мечтой и реальностью услащалось опием. Тоска романтиков по утерянному Раю, в особенности в ее немецкой интерпретации Sehn sucht, сублимировалась в искусственном Рае опийных сновидений. Недаром французский символист Шарль Бодлер так и называет свой трактат о наркотиках (1860 г.) – «Искусственный рай». Первая часть «Искусственного рая» «Поэма гашиша» – оригинальное творение Бодлера, вторая – перевод «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Квинси. В «Поэме гашиша» Шарль Бодлер с самого начала определяет, ограниченные рамки «искусственного рая», «искусственного идеала», сатанинское происхождение которого основывается на ложно понятом божественном стремлении человека к бесконечному: «Но в своем ослеплении он [человек – О. Ж.] забывает, что играет с более лукавым и более сильным, чем он сам, и что Дух зла, получив один его волосок, завладеет его головой. И вот этот видимый владыка видимого мира (я говорю о человеке) захотел создать себе Рай при помощи фармацевтических средств и возбуждающих напитков, уподобляясь маньяку, который вздумал бы заменить солидную мебель и настоящие сады рисунками на холсте, вставленными в рамы. Этим извращением влечения к Бесконечному и объясняются, по-моему, все преступные эксцессы от уединенного, сосредоточенного опьянения писателя, который вынужденно прибег к опиуму для облегчения физических страданий и, открыв в нем источник убийственных наслаждений, сделал его светилом своего духовного мира подчинил ему весь склад своей жизни, до самого последнего oimhvi из предместий, который с душой объятой пламенем славы и величия, валяется в грязи на проезжей дороге. Среди веществ, способных создать то, что я называю Искусственным Идеалом – не говоря о спиртных напитках, сразу приводящих в буйное состояние силы телесные и парализующих духовную силу, об ароматах, слишком частое употребление которых хотя и создает более утонченную фантазию, но постепенно истощает физические силы, – наиболее действенными являются гашиш и опиум, их сравнительно легко достать и обращаться с ними довольно просто». Писатель, которого упоминает Бодлер, вне всяких сомнений Де Квинси. Сам Бодлер, поначалу, подобно Де Квинси, успокаивал опиумом желудочные и нервные боли, которыми страдал с молодости. Затем, (путь у всех один) боль душевную. Впервые прибегнув к нему в 1842 году, вероятно в значительной мере из любопытства, после прочтения «Исповеди», а также как к лекарству от сифилиса, поэт от спорадических употреблений перешел к регулярному употреблению опиума. Но в отличие от Де Квинси, Бодлер не нашел в себе сил расстаться с наркотиками, и к 1862 году поэт попадает под окончательную власть страшного недуга, который фактически и приводит его к преждевременной смерти в возрасте 46 лет. Де Квинси, как и все романтики, стремился к идеалу, заблуждаясь, принимал мир
опийных наслаждений за Рай, «ключами» от которого «владел» «нежный» и
«могущественный» опиум. Мрачный и разочарованный символист Бодлер абсолютно
уверен, что наркотический Рай – это «искусственный Рай». В то же время, есть какая-то предопределенность в творческом и личном пути Бодлера, который родился в тот самый год, когда выходит «Исповедь» Де Квинси. История зависимости Михаила Булгакова – одна из многих подобных историй. Морфинизм не выбирает расы, национальности, пола, возраста, происхождения, образования. Отличие Михаила Булгакова от миллионов неизвестных нам людей, страдающих наркозависимостью, состоит в том, что он, как и Де Квинси, Бодлер, Берроуз, Фаллада, смог талантливо написать о трагедии зависимого человека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||