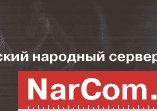|
| |
Почему мы себя
убиваем,
или
Почему мы себя не убиваем
Жертвы
плюрализма
Для серьезных, трезвых умов такие
высокопарности, как Дух, Культура, — это в
лучшем случае глазировка на булочке. А
потому особенно приятно, когда
практические деятели признают жизненно
важными невещественные ценности. На
четвертом съезде народных депутатов СССР
профессиональный знаток человеческой души
— директор госплемсовхоза А. Долганов
объявил, что в нашей стране ежегодно
кончают с собой около шестидесяти тысяч
человек — из-за тяжелого материального
положения и поругания таких святынь, как
Ильич и революция. Знал ли директор, что за
те десятилетия (1965—1985). когда подобные
святыни только воспевались, число
самоубийств удвоилось — с 39,5 до 81,5 тысячи, с
началом безбожного очернительства эта
цифра упала ниже 60 тысяч, которые народный
избранник и пытается “повесить- на
перестройку? И, однако же, при всей
демагогической лживости обвинения вторая
его часть (Ильич и революция) все-таки ближе
к истине, чем первая: бывает, что и повышению
жизненного уровня сопутствует рост
самоуничтожении. Но этого не знать как раз
не стыдно, В энциклопедии Брокгауза и
Ефрона проблеме самоубийства посвящена
основательная статья, в БСЭ (1944) указана
лишь статья уголовного кодекса о доведении
до самоубийства, а из следующих изданий
исключено и само это понятие: советские
руководители в конце 20-х годов последовали
примеру своего классового врага Шишкова, за
сто лет до них начертавшего на солидном
статистическом исследовании профессора К.
Ф. Германа: “Хорошо извещать о благих делах,
а такие, как смертоубийства и самоубийства,
должны погружаться в вечное забвение”. В
десятилетия же ограждения святынь и
удвоения самоубийств молчаливо
предполагалось, что лишь душевнобольные
способны по своей воле покинуть страну, в
которой с каждым днем все радостнее жить (хотя
и по сию нору психически больных среди
самоубийц не больше четверти-трети, да и
душевная болезнь тоже еще не причина
убивать себя).
Предваряя доказательства, скажу: не
существует никакой связи между числом
самоубийств и материальными условиями
жизни людей (бытие не определяет сознания).
Но, к сожалению, средний советский человек
за десятилетия жизни во тьме почти перестал
нуждаться в зрении: ему и без науки все
понятно. Скажите ему, что чаще всего кончают
с собой старики, — разумеется, старость не
радость. Скажите, что молодые, — еще бы, у
них порывы и незрелость. Скажите, что бедные,
— разумеется, от лишений. Богатые —
зажрались. Образованные — от большого ума,
необразованные — от малого, пьющие — от
водки, непьющие — от неумения расслабиться
и т. п.
Вам не удастся сочинить такой нелепости, о
которой он не сказал бы: “Я так и знал”. Но
среди противоречивых, исключающих друг
друга объяснений вы заметите одну
закономерность: причины будут приводиться
сугубо материальные — имущественные,
медицинские, но никогда—духовные,
связанные со взглядами людей, их нравами,
вкусами, ценностями. Обрушивая на марксизм
громы и молнии, больдшнство из нас при этом
ничуть не сомневается в тезисе “Бытие
определяет сознание", понимая бытие в
сугубо “земном”, весомом, грубом, зримом
духе вульгарного марксизма (а
невульгарного я не видел). Учение Маркса
сделалось всесильным не
из-за -еврейских происков” и уж тем белес
не потому, что оно верно, а потому, что оно
отвечало глубочайшей человеческой
потребности — жажде примитивности, жажде
иметь элементарный и универсальный ответ
на сложнейшие вопросы мироздания.
Однако, вопреки животному материализму,
для человека важнее не столько то, ч то с ним
происходит, сколько то, как он к этому оч
носится, и разгадка проблемы самоубийства
кроется главным образом не в материальном
быте людей, а в их мнениях, нравах,
отношениях друг с другом: ни одна
материальная закономерность не
сохраняется при переходе к новому социуму
или временному отрезку. Вопреки
распространенному мнению, люди с возрастом
кончают с собой все чаще и чаше (хотя
максимум суицидальных попыток приходится
на 16—24 года), однако в некоторых странах — в
том числе и в СССР — выделяется
относительный пик в возрасте “предварительных
итогов” 45—54 года. Но в 20-е годы 3/4 попыток и
2/3 завершенных самоубийств приходилось на
возраст до 30 лет. А в Израиле, Исландии,
Новой Зеландии — что в них общего? —
наблюдается снижение самоубийств в “стариковской”
группе. Шри-Ланка же дает безумный пик в
группе 15—24 года (мужчины 70, а женщины 55
ежегодных самоубийств на 100 тысяч человек).
Обычно в бедных странах в несколько раз
меньше самоубийств. Но в Венгрии 56 мужских и
25 женских самоубийств на 100 тысяч
соответствующего населения, а в куда более
процветающей Швеции — 28 и 11. А в похожей на
нее Норвегии — 17 и 6. А в похожей Финляндии —
41 и 10. Попробуйте разглядеть закономерность:
ГДР — 46 и 28, ФРГ — 30 и 16. Австрия — 35 и 15.
Дания — 30 и 17, ЧССР — 32 и 12, Япония — 22 и 14.
Куба — 20 и 14, США — 19 и 7, Франция — 23 и 9,
Болгария — 21 и 9, Канада — 18 и 7, Польша — 21 и
4, Австралия — 16 и 6. Как видите, самоубийств
среди женщин меньше, но суицидальных
попыток больше (данные не самые свежие, но
суть верна).
В Англии больше всего самоубийств к
высших классах, затем идут чернорабочие, на
последнем же месте — квалифицированные
рабочие. С другой стороны, в США уровень
самоубийств среди белых в 2,5 раза выше, чем
среди цветных. Считается, что мобильность,
перемешивание населения, которым у нас 70
лет занимаются с полной беззаботностью,
увеличивает число самоубийств. Но среди “мигрантов”
Москвы и Ленинграда особой активности но
этой части как будто не замечено. В начале
века было твердо установлено, что
самоубийства — болезнь больших городов, но
вот в Ленинграде в 1989 году произошло 844
самоубийства, а в Ленинградской области —
около 440, то есть “на душу населения”
значительно больше.
Понять глубинные причины роста
самоубийств невозможно, не вглядываясь в
духовные факторы — незримые опоры
человеческого бытия. С замечательной
зоркостью сумел это сделать Эмиль Дюркгейм
в изданном в начале века трактате “Самоубийства”.
Многие люди переносят самые ужасные
несчастья, не помышляя о самоубийстве.
Вместе с тем Дюркгейм отмечает, что нет
огорчения настолько пустякового, чтобы оно
не могло стать причиной добровольной
гибели, — это заставляет искать истинную
причину утраченной стойкости где-то глубже:
закономерный, устрашающий рост самоубийств
во всей цивилизованной Европе (в несколько
раз за вторую половину XIX века — во Франции
их число удваивалось каждые 30 лет) не мог бы
зависеть от будничных бед, которых во все
времена было предостаточно. Дюркгейм
практически исключает внешние
материальные факторы: о биологических не
может быть и речи — биологические
параметры не способны так резко меняться.
Уровень потребления алкоголя тоже не
главная причина: пьянство больше
распространено в низших классах общества, а
самоубийства — в высших: больше вина пьют
на юге, а самоубийств больше на севере. И
вообще, если человек сначала пил, а потом
повесился, это вовсе не означает, что
повесился он оттого, что пил: и пьянство, и
самоубийство могут быть просто
последовательными стадиями единого
процесса. Алкоголиков у нас сегодня раз в
десять больше, чем алкоголичек, но
суицидальных попыток среди последних, по
некоторым данным, больше в шесть раз. —
отчего бы алкоголю так по-разному
действовать на женщин и мужчин? Вот
социологический портрет, так сказать,
рядовой алкоголички и алкоголички-суицидентки
Рядовая: воспитывалась в неполной семье,
образование ниже среднего, имеет
собственную семью, мотивы алкоголизации
интерперсональные, форма потребления
алкоголя систематически-групповая, тип
деградации эксплозивный. Суицидентка:
воспитывалась в полной семье, образование
выше среднего, не отягченная алкоголем
наследственность, мотивы алкоголизации
интраперсональные, форма потребления
алкоголя запойно-одиночная, тип изменения
личности астенический. Как видите, рядовая
алкоголичка включена в породившую ее среду,
суицидентка же ни с кем не разделяет свой
образ жизни, так не соответствующий устоям,
в которых она была воспитана.
В этом и заключается, по Дюркгейму,
глубинная причина: разрыв связей со своим
кругом, утрата твердых, не вызывающих
сомнений жизненных правил. Частоту
самоубийств, на поверхностный взгляд, в его
время увеличивал рост образования и
благосостояния, но этому резко
противоречила одна социальная группа:
евреи — не местечковые, живущие в изоляции,
а просвещенные, ассимилировавшиеся
европейские иудеи, вполне усвоившие
европейскую культуру и деловые навыки и ни
имущественно, ни профессионально не
выделявшиеся из обычного городского
населения. Но евреям не страшно даже
образование: принадлежа в социокультурном
отношении к наиболее суицидоопасным слоям
населения — дельцы, люди свободных
профессий, — они выделялись из них
пониженным уровнем самоубийств: их
охраняла принадлежность к отчетливо
очерченной общине, замешенная на религии
регламентация быта. Разумеется, еврей-мясник
и еврей-профессор верили очень по-разному,
причем профессор (адвокат или писатель)
зачастую и вовсе не верил, однако и они
почитали в религиозных обрядах древний
неприкосновенный обычай. Ритуал важнее
мистической веры, полагает Дюркгейм, если
только он почитается: в религии важнее
всего совокупность неприкосновенных
общественных обычаев. И чем большую свободу
мыслей и отступлений от обрядов она
предоставляет, тем шире круг самоубийц: их,
в частности, больше среди протестантов, чем
среди католиков'.
Подчинение желаний индивида некоему
общепринятому духовному руководству
Дюркгейм назвал сплоченностью общества. В
падении сплоченности он и усматривал
глубинную причину роста самоуничтожении.
Однако этого рода “сплоченность” вовсе не
означает взаимной любви — уменьшение
самоубийств может идти рука об руку с
возрастанием преступности. Кастовые,
патриархальные общества с низким уровнем
самоубийств современному человеку
представляются просто ужасными, но — в них
и угнетатели, и угнетенные, и даже
преступники одинаково смотрят на вещи,
существующий порядок представляется им
единственно возможным, они имеют объекты
совместного поклонения.
Именно освобождение желаний из-под
контроля общества, утрата единства норм и
ценностей, по мнению Дюркгейма, являются
причиной резко повышенного уровня
самоубийств в двух группах: люди свободных
профессий и дельцы.
Люди свободных профессий, составляя
наиболее культурную часть общества, лучше
других понимают, что под луной нет ничего
абсолютно справедливого, абсолютно
достойного, абсолютно красивого, — что
считается красивым у одних народов,
безобразно у других, достойное сейчас
считалось позорным вчера: где-то считается
красивым прямой нос, а где-то приплюснутый,
где-то невинность девушки свидетельствует
о ее непорочности, а где-то всего лишь о
непривлекательности, где-то превыше всего
ценится талант, а где-то родовитость, где-то
стыдно красть, а где-то стыдно трудиться.
Все бренно, все преходяще, ничто не вызывает
безоговорочного восторга и безоговорочной,
нерассуждающей ненависти, — а потому и ни
одна цель не захватывает до конца.
Культурному человеку, “умнику”, обычаи
собственного народа не представляются
единственно возможными, а неспособность
толпы усомниться в них лишь усугубляет
презрение к людям — с их преклонением перед
властью, богатством, ловкостью, жестокостью,
с их примитивными вкусами, с их
доверчивостью к нелепым и злобным слухам, к
демагогам и колдунам (экстрасенсам) — и
недоверие к пророкам и ученым... Все так, но
драма в том, что люди представляют собой
практически единственную земную цель
всякого творчества. И если ты не способен
служить каким-то абстрактным ценностям
вроде Науки, Искусства, Милосердия, то все
твои дарования остаются невостребованными,
и тогда они своей ненужностью начинают
разъедать тебя изнутри.
Одиночество — это не отсутствие
собутыльников, одиночество — это любовь к
чему-то, которую никто не разделяет.
Например, любовь к своему таланту...
Самоубийства этого рода Дюркгейм
называет эгоистическими — именно
пренебрежение к людям, считает он,
оставляет твою жизнь без цели.
Но ведь все эти утонченности недоступны “делягам”,
на первый взгляд сориентированным на
собственное брюхо? Однако и они озабочены
вовсе не брюхом, а социальным успехом, а
последний — не имеет естественных границ.
Желаниям может положить границу лишь
авторитет, который мы уважали бы внутри
себя, а не напоказ. В патриархальном,
замкнутом обществе роль такого
ограничителя исполняет общепринятый
обычай: пария не мечтает стать брамином, а
крепостной — барином.
Но в обществе, нацеленном на безграничное
обогащение, на безграничное движение ввысь,
для притязаний исчезают всякие рамки, —
дельцы более всего страдают от непомерно
разрастающихся аппетитов: они легко “рискуют
необходимым в надежде приобрести излишнее”,
а неудача представляется вселенской
катастрофой...
Итак, “умники” утрачивают цель своей
деятельности, а “деляги” — границы своих
потребностей. Однако есть еще одна группа с
повышенным (в Италии в 5 раз, а во Франции в 10
раз выше “нормы”) уровнем самоубийств —
это, выражаясь обобщенно, унтер-офицеры.
Причина самоубийств среди них иная, и снова
нематериальная. Ее можно назвать так —
тоталитарное сознание: у человека,
привыкшего считать себя ничтожной частью
великого целого, притупляется чувство
бесконечной ценности собственной жизни.
Итак, именно не вызывающие сомнений
сверхличные цели и ценности, пусть
неосознанные, дают человеку силы бороться с
личными невзгодами.
Для простого советского человека это
звучит слишком “по-советски”, чтобы быть
правдой, — нам так долго навязывали
бессмысленные или бесчеловечные казенные
цели, что мы уже склонны считать все
сверхличное демагогическими выдумками.
Кажется, так просто: если есть колбаса и
туалетная бумага (начало и конец всяческого
блаженства), человек не захочет уйти из
жизни. Однако я знаю старушку, которой
нынешний продовольственный кризис
позволил сбросить лет двадцать: с
просветленным лицом и пылающими глазами
она летает из очереди в очередь, хотя еще
месяц назад без охов не могла добраться и до
поликлиники. Человеческая жизнь, учил
Шопенгауэр, колеблется между тревогой и
скукой, и не так уж редко тревога
оказывается куда более целительной.
Убивают не столько лишения, сколько
ослабляющие волю сомнения: “А стоит ли уж
так надрываться?” Правда, от гибельных
сомнений защищает не только страсть к чему-то
сверхличному, но и заурядная твердолобость.
У бродячих собак жизнь совершенно собачья,
но они не помышляют о добровольном уходе из
жизни, — оттого что не способны посмотреть
на себя со стороны (кстати, лишь шимпанзе
умеют узнавать себя в зеркале) и вынести
себе приговор, как это делает человек: я
уродлив, я бестолков, несчастен, я недостоин
жить (или жизнь недостойна меня). Только
человек способен вообразить, как будут
потрясены его смертью обидчики...
Цельный человек, который никогда не
смотрит на себя глазами постороннего,
который сулит лишь других, но не самого себя,
может, подобно животному, и убить кого
угодно. кроме себя самого. Цельные,
твердокаменные люди-автоматы, на все
привыкшие реагировать раз и навсегда
предписанным образом, ненавидят всякую
новизну прежде всего за то. что она способна
посеять сомнения в привычном. Сегодня,
сражаясь за Ленина-Сталина или за исконно-посконное,
они на самом деле защищают свое право
оставаться автоматами. Из-за непривычных
фактов, мнений, причесок, штанов их
собственные перестают казаться им
единственно правильными и единственно
возможными, — и они преследуют всякую
новизну, всякое разнообразие прежде всего
как источник смертоносных сомнений. Они
словно угадывают открытие Дюркгейма: рост
самоубийств идет об руку с ростом
свободомыслия и разнообразия.
И они правы: возврат к единообразию
сталинского или национально-общинного
образа жизни действительно уничтожил бы
сомнения в том, что советское (российско-православное)
— значит лучшее, вернул бы цельность нашей
воле. Но сегодня, чтобы вновь отгородиться
от бесконечно разнообразного и бесконечно
обновляющегося мира, понадобилось бы
уничтожить уже не четверть, а девять
десятых населения, пришлось бы истребить
миллиарды книг и журналов. Люди, готовые
пойти на это, чтобы не поступиться
принципами (так они именуют
психологический комфорт), у нас есть. Но
вряд ли их мечты осуществимы технически. На
деревню как источник духовной стабильности
надежда тоже слабая: уровень самоубийств
среди мужчин в сельской местности сегодня
заметно выше, чем в городе (среди женщин
несколько ниже).
В сегодняшнем мире прочными кумирами,
вероятно, могут оставаться только духовные.
Звезда Сталина за полвека успела взлететь в
зенит и угаснуть в отхожей яме, но Гомер
остался Гомером, Ньютон — Ньютоном, а
Моцарт — Моцартом. Духовные кумиры, в
отличие от политических и узконациональных,
не уничтожают друг друга. В мире духа
чужеземное может срастаться с
отечественным, а новаторское с
традиционным, Пушкин может учиться у
Байрона. Томас Манн — у Толстого, а Капица —
у Резерфорда. Духовные ценности можно
любить без оговорок, в отличие от
политических фигур и политических программ,
вынужденных для выживания хитрить и
приспосабливаться. Духовные ценности в
компромиссах не нуждаются. Сегодня
культура из роскоши превращается в
средство выживания. В начале века рост
образования увеличивал вероятность
самоубийства. Революция, по-видимому, лишь
усугубила этот процесс: по оценке Л.
Лейбовича (1923 год), грамотность увеличивала
склонность к самоубийству в 3—4 раза, а
высшее образование — чуть ли не в 50 раз. Но
сегодня картина обратная: среди людей с
высшим образованием уровень самоубийств
понижен примерно в 1,5 раза, а отсутствие
среднего образования в 2,5 раза увеличивает
его.
Вероятно, сегодняшнее устройство мира уже
не кажется единственно возможным не только
интеллигентам, но и многим из тех, на кого
ставят ОФТ и РКП. А создательнице школьного
курса “Мировая художественная культура” Л.
М. Предтеченской в высоких кабинетах еще
недавно без стеснения заявляли: “Какая
культура — нам станочники нужны...”
Говоря упрощенно, для прогресса
необходимо общение народов и разнообразие,
а для спокойной уверенности в правильности
всего сущего — изоляция и единство.
Совместить же разнообразие с единством до
сих пор удалось, кажется, лишь мировой
художественной культуре. Она наделяет
своих поклонников чувством
безоговорочного (совместного!)
благоговения и причастности к чему-то
бессмертному — то есть тем чувством,
которое прежде дарила религия. При этом
обожествление человеческого духа не
требует нерассуждающего доверия к преданию,
которое, однажды разрушившись, уже не
восстанавливается, а кроме того, история
искусств пока не знает религиозных войн.
Этим и заканчивалась моя статья. Много с
тех пор переменилось — самоубийства в
Венгрии несколько пошли на убыль, хотя
жизнью там недовольны все, кого я ни
спрашивал, но — что же делать, жить-то надо!
Только в этом и вся разница — то казалось,
что “не надо”, а теперь кажется, что “надо”.
Боюсь, по единственной этой причине наши
самоубийцы сегодня опередили венгерских. А
в Соединенных Штатах негры стали чаще
убивать себя из-за повышения их жизненного
статуса: получая образование, они
отрываются от привычной среды, а в новом,
хотя и более высоком, общественном слое
пока что не принимаются до конца, а может
быть, и сами не вполне принимают его.
Самоубийства сопутствуют всяким
обновлениям — и в худшую, и в лучшую сторону.
И пора бы уж перестать их использовать в
политических спекуляциях, но — теперь уже в
Думе — наши удивительные “левые” (обычные
левые стоят за свободу личности) снова
сокрушаются по самоубийцам...
К сожалению, наша прогрессивная печать в
упоении борьбы с правительством часто
забывает бороться с красной армией лжецов и
демагогов: ей стоило бы почаще вспоминать,
что за двадцатилетие брежневского “процветания”
число самоубийств в Советском Союзе
УДВОИЛОСЬ, — я хочу, чтобы читатель
хорошенько это запомнил. Правда, с 93 года
уровень самоубийств в России снова
превысил дореформенный, но даже и это вовсе
не свидетельствует о поражении реформ. В
Германии прошлого века ситуация после
франко-прусской войны была полностью
противоположна нашей — не “развал”, а
объединение страны, не “бегство”
капиталов, а их приток из-за границы (огромные
репарации), не экономический спад, а
экономическое оживление, — и сопутствующий
этой недосягаемой мечте стремительный рост
самоубийств. И стремительное их падение с
началом Первой мировой войны — при
сопутствующем падении уровня жизни и
нарастании всевозможных тревог и ужасов:
возникает общее дело, в несчастьях начинают
видеть норму жизни...
Сегодня в тех странах, где реформы идут
сравнительно успешно (Польша, Чехия),
уровень самоубийств все равно существенно
выше дореформенного. В Прибалтийских же
республиках эта тенденция выражена еще
более отчетливо. Зато в России уровень
самоубийств в образованном слое по-прежнему
ниже, чем в необразованном, — хотя и
бедность, и утрата статуса особенно больно
ударила именно по интеллигенции. Впрочем,
старых добрых большевиков не смущала и
обратная картина: судя по отрывочным
публикациям, уровень самоубийств среди лиц
с высшим образованием в 20-е годы и десятки
раз превосходил средний уровень. Который,
впрочем, тоже рос: с 23-го по 26 год — в полтора
(!) раза. Однако нарком Семашко тогда не без
гордости писал, что возросший уровень
самоубийств среди женщин свидетельствует
об их возросшей социальной активности. Дело
знакомое: “наши” самоубийства — самые
прогрессивные. Тем не менее, вскоре было
сочтено более благора-зумным вообще
закрыть тему — оказалось, на 60 лет. Но
любопытно напоследок взглянуть, до какой
степени Октябрьская революция годилась на
роль снижающего уровень самоубийств “общего
дела”, каковым, несомненно. была “Германская".
Посмотрим сначала на Петербург: 1913 год — 29
самоубийств на 100 тыс. жителей, 1915-й — 11(!), 1917-й
— 10. 1919-й — 24 (рост в 2,4 раза!). 1922-й — 30, 1925-й —
34. В Москве в эти же годы соответствующие
цифры менее выражены, но качественно сходны:
1913-й—21, 1915-й—11, 1917-й—7, 1919-й—9, 1922-й—14, 1925-й —
17. По сравнению с 1917 годом рост в 2,5—3 раза!
Где же вы были, тогдашние депутаты и
директора племсовхозов?
И что конкретного предпринимают народные
заступники, чтоб хотя бы притормозить рост
самоубийств? Незаметно, чтобы н этом
отношении "левые" регионы отличались
от •правых". Петербургский опыт
волонтерской службы, вообще не требующей
почти никаких расходов, не поддержан ни
теми, ни другими. А исторически необходимая,
неизбежная назревшая и перезревшая
вестернизация, либерализация российской
экономики и российского общества
настойчиво изображается не грандиозным
общим делом, которое способно усилить в
людях самоуважение и, следовательно,
психическую выносливость, а чуть ли не
аферой кучки жуликов. Россиянам
непрестанно навязывается абсолютно
неверный их образ, образ, к тому же
бесплодный и деморализующий — это образ
беспомощных жертв, а не участников трудного,
мучительного, но огромного и важного дела,
— но тут уж прогрессивные СМИ вполне могут
соперничать с реакционными.
Но за карьеры катастрофистов “опускателей”
нашего бытия жизнью расплачиваются другие.
В связи с этим я безоговорочно осуждаю в
приведенной выше своей статье сарка-стическое
употребление слов “советский человек”, —
как будто всезнайство свойственно только
ему. Что еще представляется мне
сомнительным в моих тогдашних выводах —
это предложение (не мне первому
принадлежащее) видеть в культуре что-то
вроде религии: это означало бы обожествлять
собственные переживания, ставить их выше
реальности. В европейской культуре и без
того давно нарастают мастурбационные
тенденции — слишком многое в ней
направлено на самоудовлетворение:
искусство — средство самовыражения, цель
искусства — само искусство... В былые
времена боевые песни исполняли не для того,
чтобы раздухариться и разойтись, — их пели,
чтобы воевать; свадебные — чтобы
продолжить род, — все служило какому-то
делу. А когда человеку становится интересен
лишь его собственный внутренний мир, когда
ценности деяния вытесняются ценностями
переживания, тогда всякое дело
превращается в обузу, и наркоман в
известной степени завершает движение
литературы от эпоса к лирике: он достигает
искомых переживаний вообще без участия
реальных событий.
Обожествление человеческого духа — тоже
упростительство: даже самая возвышенная
духовная деятельность — все равно только
часть, частая функция общественного целого,
прикоснуться к которому можно множеством
способов. Неплохо бы, конечно, чтобы
крестьянин землю попахал — послушал
Бетховена, но если он бескорыстно любит
свое дело, он уже питается соками культуры.
И даже питает ее через длинную цепочку
связей.
Врата для входа в целое найдутся и для
чиновника, и для солдата. Нужды
общественного целого настолько
многообразны, что я бы не стал
безоговорочно отвергать даже коммунистов,
— даже за ними стоит какая-то часть
неисчерпаемо противоречивой истины. Один
из крупнейших социальных мыслителей России
Павел Иванович Новгородцев, высланный
Лениным на знаменитом “философском
пароходе”, еще до революции не поленился
разобрать все марксистские дискуссии и
программы и выделил в марксизме два взаимно
исключающих начала: стремление обеспечить
наемным работникам достойную жизнь в
существующем обществе и — стремление
разрушить это общество во имя некоего
будущего земного рая. После десятилетий
борьбы и расколов в Западной Европе в конце
концов восторжествовало первое
направление, превратившееся в
респектабельную социал-демократию, — в
России же победило утопическое,
экстремистское крыло, развившееся в
националистический тоталитаризм.
Наследники которого и сегодня прочно
удерживают то место, где могла бы вырасти
российская социал-демократия. Своим
Лениным, Сталиным, империализмом,
антисемитизмом, клеветой (все их оппоненты
непременно чьи-то наймиты), по-прежнему
рассчитанной на самые темные слои общества,
они продолжают дискредитировать идею
солидарности, а заодно оттягивают
интеллектуальные силы на беспрерывное
разоблачение их лжей (все равно
недостаточное) вместо обсуждения реально
стоящих перед страной проблем. Между тем
население в принципе имеет полное право на
социал-демократическое представительство
— на социально ориентированное, а не
состязательное государство: люди вправе
предпочесть потребностям развития
потребности плохонькой стабильное! и, они
вправе жить не по капиталистическому
принципу “Тяжело на работе — легко в быту”,
а по принципу обратному. Какой из них лучше
— дело личного предпочтения.
Постепенное вытеснение нынешних
коммунистов просвещенной социал-демократией
восстановит ощущение России как единого
целого, различные части которого хотя и
соперничают, но вовсе не стремятся
истребить друг друга. Вследствие чего и
выборы нового президента перестанут
вызывать предгибельное замирание. А что до
расставания с дорогими тенями Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина...
Я специально расспрашивал психотерапевтов
в самом что ни на есть красном поясе, часто
ли пациенты жалуются на падение
коммунистических святынь. И все дружно
уверяли, что им не попадался ни один такой
страдалец. Видно, всех, что были, собрала
Светлана Алексиевич в свою книгу “Зачарованные
смертью”.
|