 |
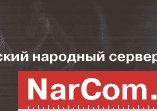 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"В то время, как рутинная научность находится в путах имитации, нередко и высококомпетентная рефлексия по канону идеальной культуры мешает исследованию социальной реальности, поскольку, в частности, не может теоретически преодолеть барьер презумпции позитивности мира". Социокультурная компетенция интеллигента и здравый смыслСергей Рапопорт ВведениеВ статье предлагается гипотетическая модель учреждения социальной науки, воспроизводящего, в частности, имитационную научную деятельность. Модель состоит из социальных и социально-психологических характеристик ситуации учреждения социальной науки и интеллигентского сословия, профессионально ее производящего. Характеристики сословия воплощены в его социо-культурной компетенции. Все эти компоненты модели имеют самостоятельное значение и вместе с тем сопоставимы с характеристиками современной социальной реальности, “данной нам в ощущениях”. Излагаемое ниже касается конкретной ситуации учреждения социальной науки “здесь-и-сейчас”, проблемы же сравнения ее с положением в других местах и временах социальной жизни выносятся за скобки и представляют собой предмет самостоятельного исследования. Наряду с этим конкретное содержание примеров служит лишь целям теоретического анализа, однако возможные читатели настоящих рассуждений могут “верифицировать” их – с помощью социо-этнологической “включенности”. Перед началом обсуждения сформулируем два вступительных постулата о социальном познании: 1. Постулат о социально-групповой ангажированности социального познания. Социальное познание (за исключением, пожалуй, не интерпретируемых статистических данных о населении вообще) носит на себе отпечаток менталитета интеллигентского сословия, т.е. социальной группы, которая этим познанием занимается. Фигурирующий нередко в научных текстах абстрактный герой – человек вообще – слеплен с интеллигентского образца. 2. Постулат о мифологии нужности интеллигенции. Интеллигенты- единственное сословие, для которого (или, по крайней мере, для рефлексирующей его части) релевантна проблема “нужности”, “востребованности”, “оправданности существования”; при этом, доказывая нужность-для-других, они тем самым находят оправдание себе. Так, ценностная подоплека порождаемых ими текстов подразумевает нужность социального познания остальным группам и человечеству вообще (тут группоцентризм как бы опирается на антропоцентризм). Нужно особо оговориться, что в статье не обсуждается вопрос о том, нужна ли фактически социальная наука и ее производители современному обществу, а показывается, как внутри этого “клана” конструируется идеология этой нужности. Ниже будет представлен один аспект метасоциологии, вытекающий из двойственности нормативной регуляции социального мира - т.е.это попытка проследить, какие проблемы поведения людей вообще и научного поведения интеллигентов, в частности, возникают на пересечении двух систем нормирования. (Оговоримся также, что под словом “поведение” здесь разумеется и поступок, и осознание, и речь, и переживание, т.е. любое проявление человеческой жизнедеятельности).Двойственность нормирования социального поведенияПризнаки, характеризующие взрослое поведение – рациональность, предсказуемость и др. являются следствием того, что каждый “взрослый нормальный современник” (Такими словами мы обозначаем человека, достигшего социальной зрелости, признанного обществом психически нормальным и живущего в то же историческое время, что и автор этих строк, - т.е. погруженного в общем в то же распознавание знаков) приобретает социальную компетентность: наряду с языком и другими знаковыми системами индивид усваивает “код” стандартных (типичных) социальных ситуаций, т.е.приобретает умение “автоматически” распознавать значащее строение социального мира. Образ типичной ситуации включает ее классификационные признаки и принцип выбора поведения в ней. Основные критерии распознавания - “обычность/необычность”, “нормальность/ненормальность”, “безопасность/опасность”, “полезность/неполезность” каждой социальной ситуации. При восприятии необычности ситуации результатом распознавательной работы является расширение их списка, т.е. социального опыта. В итоге социализации образы социальных ситуаций интегрируются в “модель мира” на основе презумпций понятности, осмысленности, целесообразности мира. Конкретизируем сказанное: взрослый нормальный современник научается прежде всего формальные (синонимы – публичные, официальные) социальные ситуации отличать от неформальных (приватных, неофициальных); в первых демонстрируется определенное явное поведение (назовем его предварительно – социально поощряемым), во вторых ситуациях как бы “разрешено”, т.е. просто стихийно исполняется поведение, которое не рекомендуется показывать публично, т.е. скрываемое, неявное. Так, в пространстве любого учреждения социальной науки имеется множество территорий, различающихся по степени официальности и, соответственно, по типам поведения. Например, в помещении, где заседает администрация или ученый совет, царит ситуация максимально официальная. Но уже в нескольких шагах отсюда, в коридорах или комнатах отделов уровень официальности заметно падает, потому снижается напряженность социального контроля, растет открытость речей и поступков и т.п. Различение явного и неявного – фундаментальный результат социализации. Учет двойственности нормирования социального поведения используется ниже как метод анализа. Идеально-культурная модель мираТерминологически обозначим эти полюса нормирования человеческого поведения. Нормам явного публичного поведения, которое выше было названо социально поощряемым, можно приписать общий ценностный смысл, или – представить их как мировосприятие, построеннное на определенном идеале общественной жизни, исторически сложившемся в европейской культуре; такую онтологическую предпосылку нормативной регуляции мы обозначим как идеальную модель мира в данной культуре. Она аксиоматически предполагает социальную целесообразность реальности и предписывает человеку социоцентрический (в противовес эгоцентрическому) способ поведения. Поэтому мир представлен в этой модели не ценностно нейтрально, а в терминах позитивной морали (это как бы “монотеистическая презумпция позитивности мира”, иначе говоря – нацеленности всех его теоретических участников на добро). Одновременно это та часть естественного (литературного) языка, которая обслуживает культурно санкционированное поведение и мышление. Идеально-культурная модель мира воплощена в многочисленных текстах культуры и является основным содержанием педагогики, т.е.преподаваемой культуры, всего публичного дискурса и “языком” официальных отношений в обществе. Это одна из разновидностей “само-собой-разумеющихся” явлений -подразумеваний, опирающихся в данном случае на идеально-культурное моделирование (другие виды будут рассмотрены ниже). Весь публичный дискурс (публицистика и тексты СМИ, реклама и т.п.) должен опираться на презумпцию позитивности мира. На ней основываются также всеобщие клише “рутинной социальной демагогии” – части публичного дискурса, которая представляет собой абстрактно-гуманистическую риторику и пропаганду (подразумевание в этом случае включает в себя и почти всеобщее недоверие к искренности такой коммуникации и – на более глубоком уровне латентности – скрываемые корыстные интересы исполнителей). Идеально-культурная модель мира служит также принципом упорядочения и оценки социальных фактов в социальных и гуманитарных науках; во всяком случае, когда в текстах этих наук говорится о социальной реальности, имеется в виду именно образ этого позитивного мира. Это нередко оказывается препятствием в познании, мешает беспристрастному познанию того, что прячется за “очевидностью”, т.е. за тем, что само-собой-разумеется: во-первых, образ позитивного мира оказывается пределом объяснительной силы социальной науки, поскольку чаще всего эмпирически зафиксированные явления, неадекватные идеалу, рассматриваются не как самостоятельные явления действительности, а лишь как “нежелательные” отклонения от этого образа, во-вторых, частное гражданское мировоззрение автора отождествляется с его поведением в социальной науке. Так, добропорядочному ученому то и дело приходится наталкиваться на расхождение “истины” с “моралью”; этот барьер оказывается непреодолимым – хотя бы потому, что расхождения не имеют ценностно нейтральных названий в теоретическом языке. А вот как раз управители-инуитивисты легко справляются с этой проблемой, поскольку, обходясь без названий, прагматически адекватно пользуются отклонениями от морали (впрочем, как будет показано ниже, и соцученые могут достигать успехов в этом деле). Непризнание “легитимности” теневой стороны социального мира создает конфликтные проблемы моральной регуляции, ведет к смешению смыслов в публичной и приватной жизнях, когда приходится “прятать” естественные корыстные интересы. Позитивность фасада социального мира формирует искаженную перспективу так же, как, например, исключение из пособий по нормам русского речевого этикета для иностранцев (лингвострановедение) всей ненормативной лексики. Встречается, хотя и реже, столь же всеобщий образ (опять-таки, не ценностно нейтральный) негативного мира (как исчадия зла), но это инверсионная разновидность той же панморализации (отдельного рассмотрения в этом отношении заслуживает идеология А.Гитлера, в которой – по крайней мере, на стадии успеха – не было раздвоения нормирования, для него идеалом было опровержение стандартной позитивной морали). Здравый смысл как модель социального мираДо сих пор мы очертили один полюс двойственности регуляции социального поведения. Настал черед второго. Уже говорилось выше, что идеально-культурная модель мира не признает девиации как самостоятельную социальную сущность, не признает их “легальности”, а просто оценивает их негативно (как бескультурье, цинизм и т.п.), в то время как социальный опыт взрослого нормального индивида обнаруживает неисполнимость ряда норм культурного идеала, это “закулисная” сторона жизни – со своими нормами поведения. Этот полюс социальной реальности и обслуживает “здравый смысл”; в нем смягчение идеально-культурной нормативной напряженности нормально: взрослеющий индивид постепенно узнает диапазон ситуаций, в которых исполнение норм идеала 1)или вовсе необязательно, 2)или разрешены слабо караемые отклонения от них; 3) или разрешена двойственность - отклонение в поведении, но показное соблюдение в речи (вообще количество вариантов различного нормирования поступка, мотива, осознания и речи – множество). То, что здесь именуется “разрешением” – это, конечно, не фиксируемая официально легальность отклонений, а стихийный выбор взрослым индивидом поведения прежде всего в неофициальных ситуациях, а также “чтение” им скрытого значения поступков и в официальной сфере. Эту систему распознавания ситуаций и выбора поведения в них мы и называем “здравым смыслом” (обычно он не пользуется высоким престижем в интеллигентской среде, а в научной – считается синонимом ненаучности). Но это вытеснение здравого смысла происходит только на официальной территории, и предпринимаемое здесь некое “возвращение” к нему было бы совершенно нелепой и иррациональной затеей, если бы ежедневная практика не свидетельствовала бы о том, что в зоне сниженной официальности почти все социальные ученые ведут себя как взрослые нормальные современники, т.е. вполне здравосмысловым образом, когда те же темы, о которых только что говорилось в официальной ситуации высоким стилем, обсуждаются в “заниженном” ключе. Попробуем придать бóльшую определенность этой достаточно размытой категории; не определяя ее четко, исследователи обычно рассуждают о месте здравого смысла в структуре обыденного сознания, его отношениях с философией и наукой. В контексте обсуждаемой здесь проблематики, т.е. в рамках социальных отношений, здравосмысловую модель мира можно определить как сложившийся в массовой психике стихийный опыт социализации, устойчивое ядро которого составляют стандарты (стереотипы) поведения в основных повторяющихся ситуациях жизни с такими базовыми “само собой разумеющимися” онтологическими и антропологическими “предпосылками” (они осознаются только в момент семантического конфликта): а) для любых условий существования оправдано выживание любой ценой, средства приспособления лишены моральной оценки (в то время, как в ряде философских моделей мира, относящихся к культурно-идеальным, отвергается выживание неблаговидными средствами); б) нормальные взрослые люди признаются одинаковыми в том смысле, что им приписываются те же мотивы поведения, что и себе ( содержание мотивов вытекает из постулата “а”, иначе говоря, естественной полагается своекорыстность интересов и мотивов); в) подразумевается непререкаемая зависимость поведения, переживания и самооценки каждого от группы, массы, точка зрения которых является критерием нормальности (“быть как все” и т.п.). Не вдаваясь здесь специально в эту проблематику, можно перечислить и более обобщенные основания названных выше презумпций: 1) человеческая жизнь – само собой разумеющаяся, необсуждаемая ценность, 2) взрослым нормальным современникам “автоматически” приписывается рациональность поведения (т.е. из возможных альтернатив поведения индивид выбирает такое, которое ведет к результату, максимально им предпочитаемому); 3) в процессах общения исполняется стереотипный (неосознаваемый) набор признаков контролируемости индивидом своего поведения и т.д. Из этих базовых постулатов для каждой конкретной ситуации выводится здравосмысловой критерий рациональности поведения, т.е. применение постулата своекорыстности другого человека, учет которой часто оказывается условием успеха социального взаимодействия, а неучет – признаком социальной незрелости и наивности. Клишированная здравосмысловая нормальность не соглашается признать необычный мотив поступка, поскольку эта модель мира является обобщением рутинности ежедневного существования. Нормы здравого смысла воспринимаются как единственно истинные, естественные, воплощающие необходимую и достаточную базовую мотивацию для выживания. В случае внезапной нестандартности, резкой смены социальных условий, когда в арсенале кода здравого смысла вдруг не оказывается рецепта адекватного поступка, происходит психологичекий конфликт, растерянность, поиск коллективных или массовых средств решения. Постепенно код распознавания ситууаций расширяется и дело сводится к уже известному стереотипу. Не вдаваясь в сложную проблематику соотношения названных моделей мира в мировосприятиии интеллигента, отметим существенное для данного случая: если для здравого смысла его картина мира является “самоочевидной”, т.е. достоверной в конечной инстанции, то с точки зрения идеально-культурной модели эта очевидность рассматривается как поверхностное видение социальной реальности, а “глубинным текстом” или подлинной реальностью является именно точка зрения на мир идеала культуры. И наоборот: представление социального мира по идеально-культурной модели с точки зрения здравого смысла нереалистично, наивно или фасадно, в каждой конкретной жизненной ситуации и поступке отыскивается неявный подтекст здравосмысловых мотивов. Так, в ситуации учреждения социальной науки у некоторых работников то и дело возникает потребность мотивировать само занятие в критериях здравого смысла (“за что нам платят?”); наряду с подавляемыми сомнениями на этот счет возникают “рационализации”: “не все могут писать статьи” и т.п. оправдания случайностей попадания в науку. Иногда пользуются иронией вместо ответа. Во всяком случае, самая большая редкость – это мотивация в каноне культурной модели мира, т.е. ссылаясь на любознательность или интересы развития науки. Особо следует подчеркнуть, что перечисленные выше постулаты обеих моделей мира являются, разумеется, теоретическими абстракциями, которые “в чистом виде” не присутствуют в конкретной человеческой психике; там здравосмысловые мотивы сложнейшим образом переплетаются с моральными; это однако самостоятельная тема для обсуждения. Явное и скрытое значения мираВследствие двойственности нормирования социальной жизни “текст социального поведения” не является непрерывным, гомогенным, а состоит из последовательности участков “явного чтения”, т.е. допускающих понимание в каноне словаря идеально-культурной модели мира, и – участков скрытого, латентного смысла. Поскольку чтение латентностей разного типа входит в набор автоматизированных умений взрослого человека, ему самому текст социальной реальности может казаться непрерывным; мало того, нередко остановка внимания на скрытостях и их эксплицирование, или открытое называние, бывают как бы “табуированы”, вытеснены из сознания; мало того, аналитическое внимание к ним может разрушить социализированность индивида. Границы публичной и частной (семейной, доверительно-дружеской) сфер жизни, общей и внутригрупповой (например, молодежной) сред, отношений верх-низ в системах управления и т.д. - это малая часть мозаики латентностей, пронизывающих всю социальную жизнь. Схематично представим типологию латентностей, чисто условно приписав почти синонимичным понятиям различное терминологическое значение: 1) будем именовать умолчаниями такие латентности, о который знают все участники общения и взаимодействия, неназывание которых открытым текстом связано с этикетными традициями и за которыми не стоят какие-либо групповые корыстные интересы; 2) назовем подразумеваниями такие скрытости, о которых догадываются только посвященные лица, т.е. заинтересованные в сокрытии данного “текста поведения” от внешних лиц (к этому типу отнесем и различные секретности и тайны любого уровня); вокруг такого сорта латентностей обычно кружится немало мнимостей: во-первых, посвященные подозревают непосвященных в незапланированном знании – за счет “утечки информации”; во-вторых, в связи с хроническим недоверием низов верхам - непосвященные могут предполагать содержание скрываемого подчас в преувеличенных, мифологизированых масштабах; в-третьих, в тех случаях, когда внешними лицами, от которых полезно скрыть некую информацию, оказываются лица вышестоящие в иерархии управления, гораздо реже удается ввести их в заблуждение, а чаще эти лица по известным им правилам “играют” обманутых, тем самым круг посвященных в смысл подразумевающегося текста расширяется; 3) наконец, будем понимать значение слова имплицитность как тот наиболее распространенный вариант, когда взрослый нормальный современник почти автоматически правильно распознает скрытый смысл социальной ситуации и столь же правильно выбирает стандартный способ поведения в ней, при этом не осознавая случившегося и не умея вербализовать его. Такая способность является важнейшей составной частью социального опыта индивида, иначе говоря, его социокультурной компетенции. Можно, пожалуй, утверждать, что в стабильные периоды общественной жизни существует неосознаваемый сговор на допущение скрытостей – и сверху вниз (например, управленческий цинизм) и снизу вверх (обыденные девиации). Недопустимо также разглашение сговора. Нарушения этого молчаливого общественного договора отличают борцов с системами и психических неадаптантов. Участок социальной психики, где скопился весь исторический бессознательный опыт скрытостей, содержит имплицитные ответы на все социальные и социально-психологические вопросы, которые могут возникнуть в сознании исследователей. Теперь рассмотрим первый попавшийся пример, выявляя имплицитности методом “анализа пресуппозиций” текста поведения. Ситуация задается утрированно, материал ее служит только демонстрации метода. Перед нами подразделение некоторого учреждения социальной науки. Ситуация официальная - заседание. Обсуждается вопрос о подготовке коллективной монографии. Соавторы предлагают свои тексты – на государственном языке. Провозглашается, что статьи принимаются на любом языке; так, авторы из соседних стран представят тексты на английском. Один из авторов заявляет, что у него есть статья на русском (и аргумент: “если можно на английском, то почему нельзя на русском?”). Воцаряется напряженное молчание, смысл которого участниками прочитывается одинаково: на русском – нежелательно. Предлагаемые ниже интерпретации участков текста – авторские, основанные на включенности в ситуацию. Итак:
Если обсуждаемый автор продолжает настаивать на своем, возникает характерный конфликт: автор – с точки зрения описанной системы отношений в учреждении - обнаруживает недостатки своей социокультурной компетенции; само по себе это нарушение нормативного равновесия в системе невелико, но есть опасность послужить примером. Поэтому автор подлежит наказанию, но наказание должно быть оформлено в каноне официального, явного нормирования, поскольку согласно следующей имплицитной норме-6 недопустимо признание наличия таких признаков в данном конкретном заведении. Все перечисленные выше имплицитные нормы могут быть ранжированы по степени допустимости их нарушения. В закулисной, неофициальной ситуации строгость имплицитного нормирования снижается и участники могут достаточно открыто, в различных доступных им формах осознания и вербализации обсуждать случившееся. Парадокс ситуации в учреждении заключается в том, что любые вершины откровенности и разоблачения, достигаемые в неформальной среде, воспринимаются участниками как касающиеся только человеческих взаимоотношений и не имеющие никакого отношения к социальному познанию. Статус познания приписывается только официальным ситуациям (к примеру, конференциям, семинарам, публикациям). Если предположить, что некто затеял бы анализ скрытого социального управления на официальной территории, то это было бы допустимо только в анонимной абстрактной форме, а с обобщениями ни официальные представители учреждения, ни любые единичные участники не станут идентифицироваться. Кстати, в этом заключено коренное отличие новых социально-политических нравов от недавних тоталитарных: там анонимные стражи системы цензурировали любое эксплицирование скрытых ее пружин и карали за это куда строже, чем за разоблачение конкретных носителей. Система (за редкими исключениями) была неприкосновенна и анонимна, нарушители были именные. Иными словами, в советские времена идеологический контроль свидетельствовал о большем уважении верхов к теоретическому социальному познанию. В нынешние времена частный интеллигент, избегая отождествления с генерализациями, прячется от формальной и моральной ответветственности в извилистых фалдах демократии (см. ниже пример с методологическими семинарами). Действует также запрет на публичное морально-негативное самопознание. Наконец, следующее соображение, касающееся на сей раз уже праксеологии и этики обсуждаемого социального познания: если в официальной ситуации в учреждении окажется возможным опубликовать (=объявить публично) любое теоретическое или даже конкретное свидетельство скрытого нормирования и управления, из этого никогда не вытекает изменение самой социальной ситуации, т.е. соблюдение в будущем идеально-культурных норм. Скрытое управление поведением неотменимо. И это, пожалуй, один из признаков действительного социального закона: научное осознание его, например, отклонения скрытого нормирования от открытого, не в состоянии изменить ситуацию (за исключением краткосрочных периодов резких социальных перемен). Можно сослаться при этом на метафору г-на Андерсена Г.Х. (“Новые одежды короля”): как известно, в конце рассказа ситуация не меняется, несмотря на возглас ребенка и поддержку народа. Можно даже продолжить сюжет: допустим, жулики-закройщики созывают пресс-конференцию и, покаявшись, признаются в своем надувательстве; надо думать, автору-реалисту пришлось бы заключить их в дурдом, а в королевстве официально ввести постоянную должность ребенка, периодически возглашающего правду. Остается добавить, что проведенный анализ представляет собой характеристику интеллигентов по критериям социо-культурной компетенции и тем самым относится скорее к сфере социальной психологии и культурологии. Собственно социологическим тут был бы ответ на вопрос, какие именно сферы реальности и почему носители официоза и определенная активная часть общественности считают нужным скрыть от остального населения и переводят в разряд скрытого управления. Но это уже отдельная проблематика. Социокультурная компетенция социального ученогоПод социокультурной компетенцией интеллигента-ученого мы понимаем набор знаний и умений общего и специфического характера, усвоенных им в ходе социализации и дополненных адаптационными навыками в научном учреждении. Этот набор необходим и достаточен для выживания его как человека и для стабильного занятия типичными действиями, признаваемыми в данном сообществе за научные. Общий и специфический уровни культурной компетенции проверяются на входе претендента в науку, перепроверяются периодически в ходе аттестаций, удостоверяются известными ступенями научной карьеры. С точки зрения формальной цензовые требования к культурной компетенции целиком относятся к идельно-культурному нормированию: это наличие общекультурной эрудиции, актуальной и исторической эрудиции по данной дисциплине (например, социологии); знание иностранных языков, в первую очередь – английского, на котором представлена престижная научная литература; общие логико-методологические знания, специальные методологические знания и методические умения по дисциплине. Другие существенные идеально-культурные качества и способности (ум, талант, моральные свойства) практически непроверимы, но, поскольку претендент поступает в учреждение социальной науки из ВУЗа или другого интеллигентного учреждения, действует правило “эстафеты”: все эти заведения принадлежат одной системе с теми же цензовыми критериями и, если переход клиента не сопровождался адаптационным скандалом, то названные достоинства по умолчанию ему приписываются – или зачисляются “в долг”. Однако знание и применение перечисленных выше свойств – это легально-контролируемая часть социо-культурной компетенции, которая должна официально удостоверяться при приеме; это дает лишь право на участие в науке, или в поиске истины. Есть еще важнейшая латентная часть компетенции, контролируемая сильно и скрыто; это и есть область здравосмысловой, т.е. социальной зрелости индивида, которая приписывается ему при приеме имплицитно. С точки зрения этого кода человек получает право на получение заработной платы в непыльном учреждении, а также – право на карьеру, увеличивающую в будущем материальные и символические блага. Отметим, что нарушения этих латентных правил достаточно редки, но кара за их нарушение сильнее, чем за нарушение легальных норм. При этом существенно то, что ни нарушение правила здравого смысла, ни наказание за него не могут быть открытыми; кара должна быть оформлена как нарушение открытой культурной нормы. Тут нижестоящие сотрудники не защищены никакими социо-культурными индульгенциями (званиями, регалиями) и часто их судьба зависит от отношений с Заказчиком (Это обозначение инстанций любого уровня, финансирующих науку (из бюджета или непосредственно) и, в связи с этим, контролирующих ее).. Руководитель учреждения социальной науки, в отличие от руководителей в других социальных сферах, обязан быть помеченным научными этикетками, как бы сосредоточивая в себе власть и научную компетентность. Это последнее свойство часто соответствует репрезентативному ритуалу научности, главное – что власть позволяет осуществлять формальный и латентный контроль за поведением сотрудников, за количеством и качеством деятельности, причем критерии качества зависят от выщестоящего Заказчика. Однако эту систему социально-психологически компенсирует простор для имитационной активности: симуляция качества латентно неизбежна, однако в открытом режиме она запрещается, подчиненные должны владеть кодом имитации и применять его так, чтобы властьимущий имел возможность имитировать, что он не догадывается о симуляции. Обе стороны подыгрывают друг другу – на уровне “имплицитностей”. Иначе говоря, буквальное исполнение указаний руководства, которые, конечно, закодированы в идеально-культурном каноне, отнюдь не обеспечивает “выживания” и не являются признаком социо-культурной компетентности, а представляют собой признак социальной незрелости или наивности, т.е. неумения читать латентный смысл. Социальная наивность – это и есть применение человеком идеально-культурной нормы поведения в сфере, нуждающейся в имитации. Но в условиях социальной науки эти характеристики приобретают специфические черты. Попав в научное учреждение на работу, взрослый интеллигент проходит период адаптации к особым условиям ситуации, прежде всего – вытесненности здравосмыслового канона из открытого обихода. Однако интеллигенту во всю взрослость приходится пребывать во многих таких системах; трудовая и психологическая стабильность большинства ученых свидетельствуют о том, что они успешно адаптируются и чаще всего не подозревают о двойственности нормирования, т.е. просто стихийно пользуются обоими кодами. И только в неожиданной стрессовой ситуации всплывают тревожные вопросы и потребность в здравосмысловой (успокаивающей) рационализации. Таким образом, социо-культурная компетенция работника учреждения социальной науки схематично состоит из: 1) владения кодом идеально-культурного нормирования; 2) владения кодом здравосмыслового нормирования; 3) владения двойственностью, т.е. почти автоматическим пользованием то одним, то другим – в зависимости от распознанной социальной ситуации. Само опознание такой ситуации, в которой нужно демонстрировать идеально-культурное поведение, также относится к области компетенции здравого смысла. Наконец, имплицитное предположение об имитационной подоплеке данного поступка социального ученого - это тоже здравосмысловая компетенция, но заявление об этом вслух - это социальная наивность, т.е. некомпетентность. Особой сложностью при этом отличаются процессы психического переживания, осознания мотивов, а также нормирования речи – в формальной и неформальной среде. Впрочем, в таких случаях бывает и имитация наивности, ирония по ее поводу и т.п. коллективные игры в клане. Специфика обсуждаемой сферы жизни еще и в том, что участие сотрудников в социальной науке и применение их компетенции обращены на познание социального мира (или, как некогда выражались социологи, – это входит в их профессиональную лицензию); социальный ученый может даже приписывать миру те же характеристики, которые свойственны внутреннему устройству научного учреждения, однако практически в текстах фигурирует описание социума в категориях идеальной модели мира, обязательной для всей открытой культуры в данном ареале; латентная же суть его или не опознается, или не пропускается в открытые тексты. В свете сказанного выше коснемся проблемы комплекса профессиональной неполноценности или вполне осознаваемого переживания ее. Официальные инстанции (руководство, ученый совет и т.п.), выступающие от имени легальных цензовых критериев, перманентно сохраняют “подотчетность” сотрудников, устраивая аттестации, разборы и рецензирование текстов; тем самым идеально-культурный ценз является открытым средством управления поведением и психикой ученых. В то же время социальная компетентность должна подсказывать им актуальные возможности обойти барьеры, имитируя научность. Но этими отношениями не исчерпывается проблема. Дело в том, что часть сотрудников научного учреждения чувствует ответственность за качество и компетентность не только перед официальными инстанциями. Они переживают психологическую зависимость в этом отношении и перед референтной группой, и перед конкретными местными и мировыми авторитетами. Наконец, они имеют собственные представления о том, каким должно быть качество их работы, перед ними иногда встает проблема, законно ли они занимают место в научном сообществе. Для преодоления таких переживаний профессиональной неполноценности часто применяется групповая “терапия” (например, успокаивающая уверенность в провинциальности и коллективной второсортности местной науки: “тут никто ничего никогда не сможет открыть”); иногда помогает набор апробированных, высокопрестижных тем, терминов, поз, с помощью которых можно убедить в своей значимости локальное окружение и руководство. Однако в части случаев причина переживания некомпетентности коренится в том, что внутри самой системы нет содержательного критерия научности и качества или он в принципе недоопределен. Как ни странно, социальная многоопытность все-таки не спасает интеллигентов от приступов тревоги перед возможностью внезапного идеально-культурного контроля, и это несмотря на мощное здравосмысловое неверие в саму его возможность в условиях рутинного учреждения науки. От тревожности не спасают регалии и заслуги. Малейший контрольный стресс – и скрытый в глубинах социализированности и подавленный страх за имитации вырывается наружу, но не надолго: здравосмысловой опыт действует успокаивающе и оправдывает себя на практике. Однако бывают и случаи, когда человек не доверяет именно этому опыту, считая его аморальным и не веря в “латентную разрешенность имитации”. В этих случаях неизбежна фрустрация. Во всяком случае, как уверенность в компетентности, так и фрустрация по ее поводу являются препятствиями качеству научной работы, мешают они и просто свободному мышлению в условиях описываемого учреждения, если учесть еще и групповой социально-психологический контроль за тем, чтобы член клана не “вышел за его пределы”, т.е. не преодолел самостоятельно его качестввенный уровень. В то время, как рутинная научность находится в путах имитации, нередко и высококомпетентная рефлексия по канону идеальной культуры мешает исследованию социальной реальности, поскольку, в частности, не может теоретически преодолеть барьер презумпции позитивности мира. Таким образом, во всей полноте социокультурная комптенция работника учреждения социальной науки – это сложное сочетание контролируемых культурных качеств вкупе с умением в нужное время обходить этот контроль, одновременно пользуясь компенсаторными благами неофициальности и приватности – вплоть до легкого фрондирования и ироничности по поводу всей ситуации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||