 |
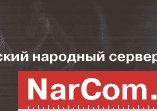 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статья посвящена анализу социального контекста моральной паники вокруг наркотиков в России в 1999 – 2001 гг. В работе была выдвинута гипотеза о том, что моральная паника вокруг наркотиков поднялась на общей волне неоморализма, то есть постепенного отказа от перестроечных либеральных ценностей и одновременного возврата к сплаву советских ценностей c реконструированными ценностями старой дореволюционной России. В рамках этой работы гипотеза пока находит подтверждение. Кроме того, с помощью концепции моральных границ был произведен анализ дискурса российского неоморализма, в частности, рассматривалась проблема конструирования публичного пространства в этом дискурсе. Из анализа следует, что публичное пространство в неоморалистском дискурсе конструируется как интолерантное к сексуальным меньшинствам - в этом пространстве могут принимать участие лишь "нормальные", вписывающиеся в рамки обновляющейся морали индивиды. Публичное пространство в дискурсе российского неоморализмаПетр Мейлахс За последний год мне довелось принимать участие в нескольких проектах, посвященных конструированию проблемы наркотиков петербургскими и общероссийскими печатными СМИ. Результаты моей работы, равно как и исследования других авторов, свидетельствуют о том, что в 1998 – 2001 гг. дискурс СМИ о наркотиках можно охарактеризовать как моральную панику, то есть реакцию несоразмерную опасности наркомании в России (Мейлахс 2003; Мейлахс 2004; Смирнова 2000; Костерина 2002). Анализ ситуации также показал, что пик этой паники позади, а сам интерес к проблеме наркотиков падает, начиная с 2001 года, и находится сейчас примерно на уровне 1998 года. Кроме того, выяснилось, что, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге наблюдалось стремление СМИ представить положение как катастрофическое, квалифицировать ситуацию в качестве моральной паники не представляется возможным, так как отсутствовал один из важнейших ее компонентов – конструирование образа «народного дьявола», или демонизация наркозависимых. Тем не менее, в краткий период в начале 2002 года, такая демонизация отмечалась, что позволяет говорить о моральной паники в тот промежуток времени. После того, как мне удалось выявить ряд дискурсивных стратегий масс медиа по конструированию социальной проблемы наркотиков, таких как стратегии по созданию чувства повышенной опасности наркомании, мобилизационные стратегии и стратегии по легитимации определения ситуации, презентируемой СМИ, передо мной встала задача по оценке роли социального контекста, в котором разворачивалась российская моральная паника вокруг наркотиков. Настоящая статья является первым пробным шагом по решению этой масштабной задачи. Для выяснения того, как социальный контекст способствовал появлению в России моральной паники по поводу наркотиков я намерен использовать концепции "символических границ", "моральных границ" и "работе по поддержанию моральных границ", развиваемые Michele Lamont (1992, 2001), Erikson (1966), Swidler and Arditi (1994), Epstein (1992), Beisel (1992), Ben-Yehuda (1985), Wuthnow (1987) и др. Дюркгейм называл моральным порядком общества систему восприятия и классификации реальности, которая регулирует, структурирует и организует отношения в этом сообществе. Соответственно любое общество имеет символические и моральные границы, то есть те линии, которые включают в него полноправных членов сообщества и исключают из него чужаков, которые могут быть как внешними, то есть отличными по территориальной принадлежности от членов сообщества, так и внутренними – несоответствующим моральным стандартам этого сообщества. Такие линии могут быть выражены через нормативные запреты (табу), и культурные аттитюды и практики, отделяющие «нас» от «них» (Lamont 2001). По всей видимости, бинарная оппозиция «мы» и «они» является базовой, которая и делает возможным саму концепцию социальной идентичности. Моральные границы – это один из видов символических границ, которые можно определить как систему различений, используемых для категоризации объектов, людей, практик, а также пространства и времени (Lamont 1992:9). На макросоциологическом уровне, работа по поддержанию моральных границ, по включению и исключению, происходит для поддержания внутреннего порядка в сообществе, с помощью принуждения к следованию коллективным нормам. Понятие моральных границ является тем звеном, которое связывает теорию моральных паник с более общими социологическими концепциями социального воспроизводства и изменения морального и социального порядка. Когда моральные границы проходят через период переоценки и ревизии, как часто происходит во время кризиса или революции, такая неопределенность может привести к возникновению моральной паники и требованиям к переопределению и очерчиванию заново моральных границ сообщества. Так, например, моральная паника по поводу молодежных беспорядков в Англии, по мнению автора этой концепции Стэнли Коэна (Cohen 1973), явилась реакцией на изменяющийся в 60 годы статус молодежи. Попытки криминализации контр-дискурса, наблюдавшиеся во время российской моральной паники по поводу наркотиков, на мой взгляд, объясняются именно тем, что меры предлагаемые в рамках этого дискурса направлены на снижение отрицательных последствий наркотизации, такие как смерть от передозировок, сопутствующие заболевания, преступность вокруг наркотиков, но не предлагают главного для тех, кто принимает участие в конструировании моральной паники вокруг наркотиков,- защитить моральные границы, которые и является главным ее объектом. Как раз традиционная мораль в рамках контр-дискурса терпит поражение, а моральные границы, регулирующие легитимное и нелегитимное удовольствие, оказываются пересечены и переопределены. Именно такая ситуация кризиса существовала в России середины 90-х во времена всплеска интереса прессы к наркомании. Моя гипотеза состоит в том, что моральная паника вокруг наркомании поднялась на общей волне "неоморализма", т.е. постепенного отказа от перестроечных либеральных ценностей и одновременного возврата к старым советским ценностям и сплава их с «новой русской идеей Православия" и возвращения к своим «русским корням», характеризующих пост-ельцинскую Россию. Символическим действием, направленным на освящение этого сплава, на мой взгляд, явилось принятие Государственной Думой советского гимна вместе с государственным флагом старой дореволюционной России. Согласно моей гипотезе тема наркомании как моральной деградации общества была лишь одной из многих тем, затрагивающих «моральное падение» российского общества. Так, например, именно в то время появилась инициатива депутатов Государственной думы Г. Райкова и Д. Рогозина вновь ввести уголовное наказание за гомосексуализм. К этому времени относится и появление молодежного движения «Идущие вместе», центральным организующим моментом которых являлись не политически требования (течение полностью поддерживало президента и его курс), а исключительно моральные – остановить «засилье порнографии, гомосексуализма, наркомании». Это и попытки возвращения памятника Дзержинскому в Москве. В своей работе я поставил цель проследить освещение прессой «моральных битв», по таким темам как гомосексуализм, порнография, уроки сексуального просвещения в школах, с тем, чтобы выявить характерные черты российского неоморализма как социального контекста, в котором разворачивалась моральная паника вокруг наркотиков. Для этого были выбраны две общероссийские газеты - «Российская газета» и «Независимая газета», как органы, представляющие российский мэйнстрим («Российская газета» является официальным печатным органом правительства РФ), и газета, представляющая (или, по-крайней мере, представлявшая на тот момент) российские демократические круги. Анализировались все публикации, имевшие отношение к вышеупомянутым темам с 1992 по 2004 год включительно. Гипотеза во многом нашла подтверждение. Темы гомосексуализма, порнографии и сексуального просвещения в школах прошли пик своего освещения в двух исследуемых газетах именно в 1997-1999 годах, период в точности совпадающий с подъемом моральной паники по поводу наркотиков. Так, 14.07.1999 в «Независимой газете» один из обозревателей писал, что: «Гомосексуализм - химера сезона. Публику будоражат намеками: во власти, в шоу-бизнесе, в Церкви, в соседней квартире таятся особи нетрадиционной сексуальной ориентации». Именно в тот период в «Российской газете» (22.10.1999) появляются репортажи повествующие чуть ли не о всемирном заговоре гомосексуалистов. «”Голубые" и "розовые" набирают силу и вес в обществе. И судя по тому, как упорно и настойчиво рвутся к власти "окрашенные" у нас, как они занимают ключевые посты в СМИ, телерадиокомпаниях, в исполнительной и законодательной власти, в предвыборных штабах наших ведущих политиков, нам всем предстоит испытать немалое давление тех, кто под влиянием момента или партнеров по сексу способен принимать любые нетрадиционные решения на самом высшем государственном уровне.» (РГ, 22.10.1999). Однако затем накал страстей постепенно начал спадать, а с 2001 года, статьи осуждающие гомосексуализм или гомосексуалистов полностью исчезли. Именно с этого года, как было найдено в предыдущем исследовании, пошла на убыль и моральная паника в отношении наркотиков. Схожую эволюцию на страницах «Российской газеты» можно проследить и в отношении другой темы, порнографии. Так, если в 1996 году в газете поднимается вопрос о цивилизованном обороте порнографической продукции, наподобие той системы, что существует в странах Запада, то к 1999 году издание занимает более радикальную и бескомпромиссную позицию, не допускающую каких-либо сделок с «проводниками разврата». «Может быть, перестанем перенимать все подряд с "цивилизованного Запада" с его теоремами насчет меры дозволенного и недозволенного разврата. Суть же не меняется... И не надо стесняться прослыть ханжами». (РГ, 22.01.1999). В этом же году печатается целый поток публикаций, призывающих положить конец «порнобезумию». Однако, уже в 2000 году этот поток неожиданно истекает. Проблема, утратив «статус знаменитости» (Hilgartner and Bosk 1988), переходит в разряд второстепенных, про нее публикуются лишь мелкие информационные заметки, касающееся, главным образом, борьбы с детской порнографией в Интернете (в основном на Западе). Как мы видим, и здесь кривая интереса газеты к порнографии совпадает с волной моральной паники вокруг наркотиков. Правда в конце 2002 года, в связи с выходом порнофильмов С. Пряшникова, где порносцены сняты на фоне памятников культуры Санкт-Петербурга, интерес газеты к теме вновь просыпается. Тем не менее, как и в 1996 году, речь идет уже не о бескомпромиссном борьбе со злом, а о регулировании порнографической продукции, принятой «во всем цивилизованном сообществе». Проекты, касающиеся сексуального просвещения школьников в России, первоначально были восприняты очень благосклонно в обоих изучаемых мною изданиях. В 1996 году было опубликовано несколько статей, которые буквально доказывали необходимость такого воспитания. Однако, к середине 1997 году ситуация стала меняться. Стало появляться все больше статей клэймсмэйкеров (главным образом, священников и педагогов), утверждавших, что такие программы «сеют разврат и учат школьников различным извращениям». По мнению Игоря Кона против сексуального просвещения был объявлен «крестовый поход» (РГ, 21.05.2003). Именно в 1997 отмечался пик интереса к этой теме. В «Российской газете» происходит процесс, который можно назвать «конструированием научного консенсуса». Так, если в начале 1997 года публиковались самые разные статьи, которые содержали экспертные мнения, как поборников сексуального воспитания, так и их противников, то к середине года позиция газеты радикально меняется - вредоносность сексуального воспитания объявляется научно доказанной, с использованием выражений вроде «психологи и педагоги прогнозируют» (моральную деградацию российской молодежи), хотя еще несколько номеров назад, в газете публиковались мнения психологов и педагогов, утверждавших прямо противоположное. В 1999 году, несмотря на то, что количество материалов, посвященных сексуальному просвещению в «Российской газете» невелико, тон приобретает более паникообразный характер, близкий к тому, что использовался при описании наркомании. Еще одна характерная черта: смещение акцентов в легитимации – если в 1997 главными доводами противников сексуального просвещения были рациональные аргументы, - сексуальное просвещение, по их мнению, породит больше проблем, чем их решит (больше абортов, половых инфекций и т.п.), то в 1998, 1999 гг. году основным аргументом против полового воспитания стал тот, что оно противоречит «нашей Православной культуре» (РГ, 06.10.1999, РГ, 20.02.1999), «ядру нашей культуры». «Пожалуй, в русской культуре нет более табуированной темы, чем тема физической любви, этот запрет лежит в культурном ядре, в этой части культуры (и натуры), которая не поддается трансформации. Ядро можно только взорвать…Ну а теперь представим себе, что наши дети будут под руководством взрослых изучать то, о чем у нас в разговорах с детьми принято традиционно умалчивать. Что может произойти при таком варварском посягательстве на культурное ядро? Конечно, ядерный взрыв» " (НГ, 20.01.1998). К 2000 году проблема постепенно исчезает из поля внимания СМИ, - проекты по сексуальному воспитанию оказались в России закрытыми. В освещении этой проблемы пик внимания изученных СМИ приходится на 1997-1999 гг., что также примерно совпадает с моральной паникой вокруг наркотиков. Необходимо сказать несколько слов о разнице между «Российской газетой» и «Независимой газетой» в освещении тем неоморализма. Российская газета не просто отражала подъем неоморализма, но и была деятельным клэймсмэйкером, активным участником этого подъема, в то же время «Независимая газета» выступала ареной борьбы между различными клэймсмэйкерами, по многим «моральным» вопросам газета предпочитала отмалчиваться, вместо этого публикуя на своих страницах мнения различных экспертов в вопросах морали (или вернее тех, кого газета ими считала) – прежде всего, священников, психологов и педагогов. Единственным случаем, когда газета четко заявила свою позицию, была кампания против «писателей-порнографов», возглавленная «Идущими вместе» в 2002 году, тогда в «Независимой газете» появилось огромное количество публикаций, причем написанных сотрудниками издания, осуждающих эту кампанию. Итак, если «Российскую газету» можно считать активным «конструктором» неоморализма, то «Независимую газету», целесообразно считать его «зеркалом», как правило, на ее страницах, публиковались самые различные точки зрения, не менее часто и те, что находились в прямом противоречии со взглядами борцов за мораль. Еще одно отличие «Российской газеты» от «Независимой газеты» заключается в различии интерпретационных фреймов в подаче информации о «моральных» вопросах. В первой основной акцента делался на публицистической значимости тем гомосексуализма и порнографии, их предполагаемого вреда для общества. В «Независимой газете», эти вопросы обсуждались, в первую очередь, с эстетической точки зрения, большинство публикаций за весь исследуемый период касалось границы между эротикой и порнографией в искусстве, гей-культуре, роли гомосексуальности в жизни выдающихся деятелей культуры. В целом, однако, освещение этих тем не подходит под определение моральной паники, поскольку его характер не был таким лавинообразным, как это было в случае с наркотиками. Согласно Beisel (1992) моральные границы конструируются из более глубоких категорий, которые он называл «глубокими структурами», примерно это же утверждает Lamont (1992), когда пишет что индивиды проводят границы, черпая из резервуара культурных репертуаров (Swidler 1986) или коллективных представлений, говоря языком Дюркгейма. Именно в определении более общих культурных категорий, задействованных в конструировании моральных границ и состояла значительная часть моей работы. Центральной моральной границей в дискурсе неоморализма, на мой взгляд, явилась граница, регулирующая отношения в публичном пространстве, то есть определяющая что дозволено в публичном пространстве, а чего там быть не должно. Мэри Дуглас (1966) утверждала, что подрывают культурный порядок вещи, которые находятся «не на своем месте», те, что не вписываются и нарушают привычные категории. Соответственно во многих культурах происходит процесс пурификации – очищения этих категорий. В нашем случае происходит процесс очищения публичного пространства, когда оно конструируется как то, в котором могут принимать участие лишь «нормальные» вписывающиеся в рамки обновляющийся морали индивиды. Всем остальным делать в нем нечего, «им надо остаться дома, и заниматься там своим грязным делом». «То, что раньше было стыдно показывать, то, за что могли осудить и даже посадить, бесстыдно вылезает на первый план и столь же бесстыдно демонстрируется. Вот, дескать, какие мы нетрадиционные» (РГ, 22.10.1999). «То, что, по здравому разумению, должно быть сугубо интимным, не для всеобщего обозрения, выставляется напоказ, становится нормой, хотя нормой-то как раз быть не должно!» (РГ, 21.03.1998). Главная стратегия неоморалистов – это охранная стратегия публичного пространства. Таким образом, идет не просто борьба с различными «аморальными» явлениями, а борьба с этими явлениями в публичном пространстве. При этом признается, что каждый может делать дома, что хочет. «Конечно, дело это сугубо личное и, слава Богу, что в него никто нынче соваться не обязан» (РГ, 22.10.1999). Одними из ключевых культурных категорий при конструировании моральной границы, регламентирующей сексуальное поведение, выступают категории греха, соблазна и страдания. Так в случае гомосексуализма, грешник (гомосексуал), преступающий эти границы, должен признать их существование, согласится с тем, что он своими действиями нарушает эти границы и страдать от этого, и только тогда он сможет рассчитывать на снисхождение. Следовательно, основная работа по поддержанию границ направлена на то, чтобы заставить эти границы признать. В подтверждение этого иногда приводится пример Чайковского, который глубоко страдал от своей гомосексуальности. Страдающий, мучающийся и раскаивающийся «Другой», вот тот идеальный конструкт, который создается в неоморалистском дискурсе о гомосексуальности. Целью неоморалистского дискурса в отличие от моралистских дискурсов тоталитарных государств является не полное искоренение порока и зла, а очистка от него публичного пространства, а также принуждение зла признавать моральные границы, очерченные добром, пусть даже и нарушая их. Легитимация этих моральных границ происходит двояким образом, - посредством конструкции симулякра «традиционной русской Православной культуры», гармоничной и органичной, без каких-либо внутренних противоречий, с незыблемыми моральными границами, где если и существовал грех, то с обязательным раскаянием, и с помощью наук о человеке (понимаемых как естественные), дающих объективное знание о норме и патологии, по любопытному стечению обстоятельств совпадающего со знанием, полученным в русле "русской Православной традиции". Таким образом, у традиции есть своеобразный костыль – рациональное знание. То и дело встречающаяся в неоморалистском дискурсе бинарная оппозиция между нормой и патологией – попытка легитимации этих границ с помощью научного знания – объективного и беспристрастного. Итак, в неоморалистском дискурсе – двойной локус легитимации и в этом он отличен от дискурса христианского фундаментализма, с подозрением, а то и с враждебностью относящегося к науке. Моральные границы, кроме того, не только определяют тех, кто находится по ту сторону границ – «их», но и тех, кто находится по эту сторону – «нас». Здесь опять одними из центральных культурных репертуаров выступают категории греха и соблазна. Грех (в данном случае гомосексуализм) обладает неумолимой притягательностью, если его не останавливать, то огромное число людей сделаются гомосексуалами. (Именно этим аргументируется вредность программ по сексуальному просвещению, одним из основных его недостатков, по мнению критиков, является то, что в них затронуты темы «половых извращений», которые «толкают» школьников на этот путь). Практически в каждом из нас сидит латентный гомосексуал, достаточно лишь показать несколько телепередач и рассказать, что такое возможно и от этого можно получать удовольствие, как всякий захочет им стать. Именно так конструируется «нормальный» субъект, находящийся по эту сторону моральных границ – это латентный гомосексуал, которого любой триггер способен совратить с правильного пути и заставить пойти по пути порока. Поэтому только силовые, запретительные меры способны спасти «нас» от «них», ведь каждый из «нас» только и мечтает стать «им» и вкусить запретного плода. Правда в этой логике сокрыто противоречие: почему следует именовать гомосексуализм «противоестественной склонностью», если столь многие из нас с легкостью готовы встать на путь «извращения»? Этот закон можно назвать «законом возрастания энтропии зла», если с ним не бороться и не совершать постоянную работу по насаждению добра, зло автоматически поглотит добро. При охране моральных границ в случае сексуального просвещения также происходит защита публичного пространства от запретных тем. Сам факт вынесения таких тем на урок действует развращающее. Здесь опять, как и в случае с гомосексуализмом происходит очищение публичного пространства, поскольку в нем нарушается граница между дозволенным и недозволенным. Не важно как ведут себя школьники, главное, чтобы они признавали эту границу. Как пишет в этой связи Валерий Червяков, один из авторов программы по сексуальному просвещению в России в статье «Сексуальная контрреволюция», опубликованной в «Независимой газете» 19.06.1997 «Поэтому воинствующие моралисты молчали, взирая на расцвет безвкусной эротики и грязной порнографии. Они молчали, когда весь мир с ужасом говорил о немыслимых цифрах абортов в России. Молчали они и тогда, когда эпидемия сифилиса захлестнула страну. И всколыхнулись, когда речь зашла о создании системы сексуального просвещения подростков, способной научить каждого из них выработать свое нравственное отношение к порнографии и насилию, самостоятельно выбрать линию поведения и предотвращать болезни». Другой центральной категорией, используемой при конструировании моральных границ в дискурсе неоморализма является категория знания. Эта категория у сторонников традиционных моральных границ и их противников наделяется противоположными смыслами. Если у первых знание развращает и автоматически запускает механизмы «греховного» поведения, то у их оппонентов знание спасает и автоматически же останавливает такое поведение. В этом сторонники сексуального просвещения продолжают традиции Просвещения классического. Соответственно легитимация у первых – "традиция", "Российская традиция", "Православие", которые неизменимы в принципе, сущностны (см. выше цитату из НГ о «ядре нашей культуры»), то у вторых – Запад, «весь цивилизованный мир». Норма это то, о чем можно говорить, раз об этом можно говорить, значит это можно делать. Именно так аргументируется охранная стратегия публичного пространства. Итак, можно сказать, что первоначальная гипотеза о том, что моральная паника в отношении наркотиков произошла на волне обшей "борьбы с аморальными явлениями" пока подтверждается. Рассмотрение вопроса о ее социальном контексте привело меня к рассмотрению нового феномена, который я назвал "российским неоморализмом" и позволило с помощью аналитического инструментария социологии символических и моральных границ описать некоторые его черты. Безусловно, данное кейс-стади двух российских газет проливает свет лишь на малую толику вопросов о подъеме неоморализма и то на ту их часть, что связана с поэтикой дискурсивных практик, на механизмах сигнификации. Необходимо более детальное исследование о том, как происходит переопределение моральных границ в различных дискурсах, а не только в дискурсе СМИ. И, конечно, сами СМИ должны быть диверсифицированы при изучении этой проблемы. Кроме того, отдельная и не менее важная задача состоит не только в изучении производства дискурса неоморализма, но и в исследовании его потребления, того, как он воспринимался в обществе. БИБЛИОГРАФИЯ:
Данная работа выполнена при поддержке Центра Независимых Социологических Исследований и Фонда Макартуров. The study is devoted to analysis of the social context of the drug moral panic in Russia in 1999 – 2001. A hypothesis was proposed that the drug panic arose on the wave of neomoralism that can be defined as gradual renouncement of liberal values of Perestroika with simultaneous return to a mixture of the Soviet values and the reconstructed values of pre-revolutionary Russia. In the frameworks of this study the hypothesis has been corroborated so far. Besides, an analysis of the Russian discourse of neomoralism was conducted drawing on the concept of moral boundaries, in particular, the problem of the construction of public space in Russia was considered. It follows from the analysis that public space in this discourse is constructed as intolerant to sexual minorities – only "normal", fitting the renewed morals individuals may take place in this space. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||