 |
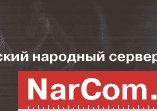 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
«Мы ... совсем не обязаны в области морали покорно
подчиняться общественному мнению. В некоторых случаях мы можем считать себя даже
как бы призванными восставать против него. В самом деле, может случиться так,
что, основываясь на каком-то из мотивов, которые только что были указаны, мы
сочтем своим долгом бороться против моральных идей, которые, с нашей точки
зрения, устарели, являются уже не более чем пережитками» П. Мейлахс Социологические, политологические и идеологические аспекты аддиктологии
1. О чем молчат цифры? Зачастую социология предстает в глазах и широкой публики, и большой части различных академических сообществ исключительно в качестве науки цифр, графиков и процентов. Кажется, стоит лишь получить надежные количественные данные по той или иной проблеме, например проблеме наркотиков, и все станет ясно: такой-то процент школьников пробовали или употребляют наркотики, такая-то часть населения относится к ним как к преступникам, а такая-то — как к больным. Что тут может быть непонятным? Так, в частности, и среди медиков господствует представление о социологах как о демографах, занимающихся, по выражению одного врача, прозвучавшему пару лет назад на конференции по профилактике наркомании, «замерением социальных констант» и сбором количественных показателей наркотизации населения. Но если вдуматься, становится понятно, что сами цифры не могут сообщить нам ничего или почти ничего, если не поместить их в контекст других цифр и, что еще более важно, не интерпретировать их на основе наших взглядов, ценностей, убеждений, идеологических приверженностей. Например, результаты исследования петербургских социологов Л. Кесельмана и М. Мацкевич (2001), проведенного в 2000 г., показали, что 18% петербуржцев хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. Много это или мало? Тем, кто исходит из предпосылки, что количество пробовавших или употребляющих наркотики (часто люди не склонны видеть особой разницы между этими категориями) должно равняться нулю или колебаться около него, как было в бывшем СССР, эти цифры внушают ужас. Для тех же, кто осведомлен, что в развитых западных странах уровень наркотизации примерно такой же уже десятки лет, а в некоторых странах, например в США, бывал и побольше (65,5% попробовавших школьников в 1981 г.) и никакой «национальной катастрофы» или «разрушения генофонда» там не происходит, эти цифры не выглядят столь пугающими (Johnston etal., 1998). Таким образом, общественная реакция на употребление наркотиков во многом обусловлена не абсолютными цифрами, показывающими уровень наркотизации населения, а отношением или противоречием между представлениями о существующем и должном, между тем, каковой представляется ситуация, и тем, какой она быть должна. Представления о «нормальном» уровне распространенности наркотиков зависят от картины мира, от того, что немцы называют «Weltanschauung» — мировоззрение. Была ли в таком случае оправдана паника вокруг наркотиков, возникшая в 1998-2001 гг., рисовавшая апокалиптические прогнозы тотальной наркотизации молодежи и превращения России в наркотическое гетто, описанная ранее (Мейлахс, 2003; Meylakhs, 2006)? Существующие данные говорят об обратном. В задачу данной публикации не входит подробное описание наркотизации населения России. Целесообразным представляется анализ данных, представленных в Государственной Думе РФ. Из них явствует, что первичная заболеваемость наркоманией в России еще в 2001 г. снизилась на 14% по сравнению с уровнем 2000 г. Снижение заболеваемости продолжалось в 2002 г. (на 58% по сравнению с 2001 г.), а в 2003 г. заболеваемость упала еще на 15,9%. Общий показатель наркотизации подростков в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом снизился на 43,3%. По мнению большого числа наблюдателей, ситуация с наркотиками в России стабилизировалась. Почему же среди немалого числа специалистов, занимающихся этим вопросом, по-прежнему сильны алармистские настроения? Почему опять проблему наркомании пытаются представить как национальную катастрофу, угрожающую самому существованию Российского государства? Как видим, объективные цифры, характеризующие российскую наркотическую ситуацию, не могут помочь нам ответить на этот вопрос. Другая проблема с цифрами, полученными во время социологических опросов, заключается в их валидности, особенно когда это касается изучения столь сенситивных вопросов, как употребление наркотиков, обладающих высокой латентностью. Из-за стигматизированности потребления наркотиков в обществе респонденты скрывают свои наркотические предпочтения и не дают искренних ответов. Что же касается официальной статистики, то тут дело обстоит еще более печально: медицинская статистика имеет сведения лишь о зарегистрированных случаях обращения в медицинские учреждения, а милицейская — о количестве преступлений, связанных с наркотиками, и числе задержанных в связи с этим граждан. О том, сколько людей потребляют наркотики, но не попадают в поле зрение медицинских и правоохранительных органов, остается только гадать. Такое положение дел привело к тому, что в социологическом сообществе активно дебатируется вопрос, насколько вообще обосновано применение количественных методов (тем более официальной статистики) в социологии вообще и в социологии девиантного поведения в частности. В академическом сообществе социологов на Западе (а в последнее время и у нас) все чаще изучаются вопросы не о том, как собрать «хорошую» статистику, а том, как она используется, какими группами и в каких целях. Однако, несмотря на все многообразие методологических трудностей, связанных с получением количественных данных в социологии и официальной статистике, не стоит впадать в тотальный негативизм относительно их применимости и адекватности к проблеме наркомании. Только надежные количественные социологические данные могут помочь, например, в отслеживании тенденций роста или падения наркотизации населения, без чего оценка любых социальных программ по противостоянию наркотизму становится затруднительной, если не невозможной. Необходима такая оценка и для решения ряда других задач. В то же время получение надежных и достоверных статистических данных по наркотизму представляет собой крайне трудную задачу не только в России, но и в мире вообще. В качестве положительного примера из мировой практики можно привести американскую программу Monitoring The Future Study, в рамках которой данные собираются на основе единой методологии в течение уже многих лет. Это позволяет американским исследователям иметь достаточно адекватную картину наркотизации подрастающего поколения в Америке. В России большое количественное исследование наркотизма на основе репрезентативной выборки методом уличного опроса было выполнено Л. Е. Кесельманом и М. Г. Мацкевич. Однако проведено оно было в 2000 г., а спустя шесть лет другого всероссийского, адекватного по качеству исследования так и не было организовано. В то же время необходимость в ежегодном мониторинге наркотизации назрела чрезвычайно остро. Тем не менее основная проблема заключается не в сборе адекватных данных по наркотикам, а в их интерпретации и разработке на их основе антинаркотической политики. Прежде всего необходимо понять, какие цели должна преследовать правовая политика в отношении наркотиков. Ответ вроде бы ясен: снижение вреда от употребления наркотиков как обществу, так и индивиду вообще, и от наркомании, в частности. Но разница законодательств в отношении наркотиков порождает разнообразные отрицательные последствия. Как взвесить весь спектр вреда от наркотиков, как оценить, что более губительно для общества? Ведь последствия той или иной антинаркотической политики всегда следует рассматривать комплексно. Так же и в правовой политике: снижая один параметр, мы увеличиваем другой, и никакая эмпирика, никакие исследования не докажут превосходство первого над вторым, все будет определяться ценностным выбором законодателей, какую бы завуалированную форму он ни приобретал. Что, если изменение в правовой политике (например, смягчение существующего законодательства) приведет к меньшему числу смертей от наркотиков, но к большему их распространению в обществе? К меньшему количеству преступлений, связанных с наркотиками, но к росту числа наркозависимых? Это изменение также может помочь одной социальной категории, но повредить другой. Например, увеличение государственного ассигнования на развитие антинаркотических профилактических программ неминуемо повлечет за собой сокращение в том или ином виде программ реабилитации для наркозависимых. Если же такого сокращения не будет, это будет означать, что пострадают другие категории «проблемных» граждан. Хотим ли мы уменьшения распространения наркотиков в любой их форме или только снижения числа людей, зависимых от тяжелых наркотиков? Или нашей целью должно стать снижение доходов наркомафии и уменьшение размеров нелегального наркорынка? Некоторые могут сказать, как это часто происходит сегодня в западных странах, что одной из приоритетных целей антинаркотической политики должно стать снижение распространенности ВИЧ и других вирусных инфекций, ибо этими заболеваниями рискует заразиться (в прямом смысле слова) все остальное население, в том числе и те, кто не имеет ни малейшего отношения к наркотикам. Так какова цена, которую общество согласно заплатить за уменьшение того или иного негативного последствия наркомании? Очевидно, что на эти вопросы не могут быть даны ответы, основывающиеся исключительно на эмпирических данных. Нельзя эмпирически доказать, что снижение числа наркозависимых «лучше», чем увеличение количества ВИЧ-инфицированных. Эмпирически недоказуемо и то, что жизни наркозависимых «стоят» меньше, чем жизни обычных граждан. Все эти понятия несоизмеримы. За выбором конкретной антинаркотической политики неизбежно стоит моральный и идеологический выбор, даже если его преподносят под знаменем рационализма и эмпиризма. Ясно одно: осознание дилемм, сопутствующих выбору правовой политики в отношении наркотизма, и понимание диалектической связи между различными явлениями, его сопровождающими, помогут если не сделать этот выбор, то, по крайней мере, обрести большую ответственность при принятии любого конкретного решения. 2. Идеологические дебаты вокруг наркотизма на Западе В западных странах, в отличие от России, где проблема широкой распространенности употребления наркотиков возникла относительно недавно, достаточно высокие показатели наркотизации населения фиксируются уже десятки лет. Столько же ведутся и споры вокруг политики, которую должно проводить государство в отношении немедицинского употребления наркотиков, а также дискуссии о том, что должно делать общество, чтобы минимизировать отрицательные последствия наркотизма. Когда речь заходит о правовой политике в отношении наркотиков, дебатирующие стороны, в сущности, пытаются решить разные проблемы. Представители одной стороны, назовем их для простоты «консерваторами», стремятся посредством законодательства снизить или, как минимум, приостановить рост потребления любых наркотиков в немедицинских целях вообще, т. е. наркотизма. Другая сторона — «либералы» — видят в законодательнах мерах принципиально другую цель: снижение числа людей, имеющих зависимость от наркотиков и негативных последствий, с ней связанных. Сторонники предельно жесткой линии в отношении употребления наркотиков (на Западе к ним, прежде всего, относятся партии правой ориентации и религиозные фундаменталисты) считают, что наркотизм плох сам по себе, поскольку он разрушает моральный порядок, на котором зиждется общество. Употребление наркотиков, прежде всего, «аморально». Отсюда — нулевая толерантность правых и фундаменталистов к употреблению в немедицинских целях каких бы то ни было наркотиков в любой форме. При этом наказание, которое получает человек за употребление или продажу наркотиков, далеко не всегда соответствует степени вреда, наносимого себе (употребление этих наркотиков) или другому (их продажа). Американский социолог Э. Гуд (1972) иллюстрирует этот тезис правовой ситуацией, сложившейся в штате Род-Айленд. Там продажа марихуаны несовершеннолетним каралась (на момент проведения исследования) сроком от 30 лет тюрьмы (минимальная ответственность) до пожизненного заключения (максимальное наказание). Это более суровая кара, чем наказание за изнасилование, убийство второй степени (непреднамеренное убийство) и вооруженное ограбление. «Теперь, — говорит Гуд, — если мы признаем, что продажа 20-летнему студенту колледжа (в Америке во многих штатах возрастом наступления совершеннолетия считается 21 год) пары сигарет с марихуаной наносит этому студенту ущерб больший, чем непреднамеренное убийство, у нас есть вее основания утверждать, что наказание за совершенное преступление вполне соответствует нанесенному вреду». Такое умозаключение исследователь, естественно, отбрасывает, как противоречащее элементарному здравому смыслу. Сторонники либеральной политики, как правило, не считают употребление наркотиков греховным самим по себе и делают акцент на отрицательных последствиях наркотизации, которые, по их мнению, во-первых, далеко не всегда ее сопровождают и, во-вторых, зависят от вида принимаемых наркотиков и паттерна их употребления. Исходя из этого вполне логичными кажутся призывы либеральных реформаторов законодательно разграничить различные виды психоактивных веществ, юридически институционализировать существующее в массовом сознании деление наркотиков на легкие и тяжелые. Есть несколько моделей правоохранительной политики в отношении наркотиков, принятых или предлагаемых различными экспертами в этой области и связанных с идеологией. Самой популярной моделью является политика тотального прогибиционисту т. е. полного запрета на употребление в немедицинских целях любых наркотиков. Эта политика в той или иной форме преобладает сегодня в большинстве стран, включая Россию и США. В Западной Европе наиболее четко такая политика реализована в Швеции. В либеральных кругах бытует мнение, что в «войне с наркотиками», как они именуют комплекс мер репрессивного характера, направленный на борьбу и с наркоторговцами, и с потребителями, победить нельзя. Это не так. Войну с наркотиками выиграть можно. Это произошло в Китае после прихода к власти коммунистов в 1949 г. Новое правительство тогда столкнулось с миллионами людей, зависящих от опиума. Очевидно, что такое громадное количество граждан, живущих в наркотической реальности, представляло огромную проблему для режима, стремившегося установить тотальный контроль над всеми областями жизни каждого из своих подданных (тоталитарным режимом). По мнению большинства наблюдателей, в течение десяти лет с повальной наркоманией в Китае было покончено. Основными орудиями в этой борьбе были публичные казни подозреваемых в наркоторговле и массовая «ресоциализация» потребителей наркотиков в трудовых лагерях, являвшихся, по сути, концентрационными (Goode, 1997). Здесь мы возвращаемся к поднятому ранее вопросу о «цене победы». Согласно ли наше общество заплатить такую цену за ликвидацию наркотизма и наркозависимости? Не будет ли эта победа пирровой? Ясно, что ответ на этот вопрос лежит вне области прикладных эмпирических исследований и целиком зависит от идеологии. Главной своей задачей приверженцы прогибиционистской позиции видят борьбу с наркотизмом вообще. При этом их аргументы можно разделить на два типа, причем неискушенные наблюдатели часто не отделяют или не отличают один от другого. Первый тип аргументов основывается на логике абсолютного уменьшения или на убеждении в том, что наркотизм можно победить, т. е. радикально снизить или искоренить вообще, стоит только применить необходимый комплекс репрессивных мер в отношении торговцев наркотиками и их клиентов. Те же, кто придерживается логики относительного сдерживания, считают, что наркотизм победить в принципе нельзя, более того, при определенных обстоятельствах невозможно даже заметно снизить число наркопотребителей, однако в случае либерализации существующего законодательства число актуальных потребителей наркотиков превысит все мыслимые пределы. В основе прогибиционистской антинаркотической политики лежит коллективистская идеология (даже если в странах, где она проводится, преобладает индивидуализм в других жизненных сферах), ставящая интересы коллектива (так, как их понимают адепты такой политики) выше прав личности. Переходя к более либеральным моделям правового регулирования наркотизма, необходимо сразу отметить одно обстоятельство. Не существует единого подхода, который в широких общественных кругах и не только получил название «легализация наркотиков». Сторонники различных вариантов либерализации политики в отношении наркотиков разнятся между собой столь сильно, что, по справедливому выражению Э. Наделмана, одного из апологетов политики снижения вреда (Harm Reduction), умеренные «легализаторы» и «прогрессивные» прогибиционисты имеют гораздо больше общего между собой, чем первые — с радикальными и экстремистски настроенными любителями немедленно легализовывать все и вся, а последние — с «ястребами-прогибиционистами», видящими в репрессивных мерах главное, а иногда и единственное оружие в противостоянии наркотизму (Nadelmann, 1992). Поэтому понятие «легализация наркотиков» вне конкретных деталей и способа реализации этой политики является лишенным смысла мифическим продуктом массового сознания. Когда речь заходит о конкретных способах легализации наркотиков, прежде всего необходимо поставить следующие вопросы: какие наркотики могут быть легализованы? при каких условиях и как эти наркотики могут распространяться? в каких количествах? только ли в специально лицензированных клиниках или где угодно? только ли наркозависимым или всем желающим? по какой цене? Без ответа на эти и другие вопросы термин "легализация" теряет всякий смысл. Если попытаться охарактеризовать основное отличие либеральных программ в отношении наркотиков от программ, в основе которых лежит установка на репрессивные меры, то оно сводится к следующему. В то время как сторонники запретительных мер перекладывают всю вину за отрицательные последствия наркотизма исключительно на сам наркотизм, то те, кто придерживается либеральных взглядов, возлагают немалую долю ответственности за сложившуюся, крайне неблагополучную ситуацию с наркотиками на законы, регулирующие наркотизм. При этом степень возлагаемой ответственности также колеблется в зависимости от идеологических взглядов, которых придерживаются сторонники предлагаемых реформ. Антипод политики тотального прогибиционизма— модель полной декриминализации любых наркотиков, вне зависимости от реальной степени вреда, наносимого ими индивиду и обществу. Такая политика является в настоящее время гипотетической и вряд ли имеет шансы быть принятой на вооружение в любом из современных обществ в ближайшем будущем. Ее сторонники, самые известные из которых — Т. Заз и М. Фридман, верят в то, что свободный рынок должен быть единственным механизмом, регулирующим оборот наркотиков в обществе. Любые наркотики, как следует из этой концепции, могут продаваться где угодно, кому угодно и в неограниченных количествах, наподобие томатного сока (несовершеннолетние, по некоторым версиям этого подхода, являются единственным исключением) (Szasz, 1992). Если же люди убедятся, что наркотики — это яд, то тогда, считают сторонники свободного и неограниченного рынка, продавцы наркотиков попросту потеряют своих клиентов. Возвращаясь к проблеме ценностного выбора при принятии решения в пользу определенной модели правового регулирования наркотизма, можно сказать, что адепты этой политики осуществляют выбор в пользу полной и ничем не ограниченной свободы индивида. Ради нее они готовы пойти на самые решительные шаги, какими бы опасными и непредсказуемыми последствиями они ни грозили. При этом вдохновленные идеологией экономического либерализма XVIII в. (laissez faire), сторонники этой модели возлагают всю вину за сегодняшнюю ситуацию с наркотиками на государство, своими «драконовскими законами» толкающее свободных, имеющих право на выбор образа жизни граждан на путь преступления (Friedman, Szasz, 1992). Более мягким вариантом либеральной политики в отношении наркотиков является их частичная декриминализация, которую иногда неправильно называют легализацией легких наркотиков. Эта политика реализуется в девяти штатах США, где хранение небольших количеств марихуаны не карается законом. Фактически реализуется она и в Израиле, где на нарушителя налагается небольшой денежный штраф без открытия уголовного дела, а также в некоторых европейских странах и Австралии. В наиболее полной мере такая политика имеет место во всем известной Голландии, где полностью декриминализованы марихуана и псилоцибиновые грибы. Там же de facto декриминализовано и хранение небольших количеств тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин, и полиция при задержании просто отбирает их (а иногда и нет) у попавшегося потребителя. В то же время продажа даже небольшого количества таких наркотиков преследуется по закону. То же самое касается и хранения количества тяжелых наркотиков, превышающего законодательно определенный максимум. Такая политика пытается распределить отрицательные последствия, связанные с наркотизмом, между самим наркотизмом и законами, его регулирующими. Идеологию, лежащую в основе данного подхода, можно назвать умеренным индивидуализмом. Модель поддержки и рецептурная модель заключаются в том, чтобы поддерживать людей, уже попавших в зависимость от наркотиков, на их более мягких субститутах, а по некоторым версиям этой модели — на тех же самых наркотиках. Наиболее распространенный вариант известен как метадоновая поддержка (methadone maintenance). Она принята во многих штатах США, большинстве стран Европы, Австралии и Океании и в других странах. Метадоновая поддержка не ставит своей главной целью избавление участника метадоновой программы от наркотической зависимости, она лишь пытается упорядочить его аддиктивный поиск, т. е. снабжать его дешевым наркотиком и тем самым лишить необходимости искать средства на наркотики преступным путем. Кроме того, по жестким версиям этого подхода, поступив в метадоновую программу, ее участник лишен возможности принимать другие наркотики и, таким образом, исключен из общего нелегального наркорынка. В случае повторного нарушения режима метадоновой поддержки участник исключается из проекта. В метадоновых клиниках, как правило, оказывается психологическая и социальная помощь, действуют программы по трудоустройству наркозависимых. Очевидно, что метадоновые программы не способны в значительной степени решить проблемы наркозависимых хотя бы в силу того, что подавляющее их большинство не хочет в них участвовать. В некоторых странах, например в Голландии, Швейцарии, а также в Англии (Ливерпуль), проходят эксперименты по героиновой поддержке, когда наркозависимым назначают то самое вещество, от которого они зависят. Но результаты этих экспериментов пока не ясны. Существуют (пока в теории) проекты того, чтобы выписывать людям, зависимым от наркотиков, рецепты на них для получения лекарств в аптеках, но до сих пор такие проекты не имели сколько-нибудь заметных шансов быть принятыми. Из сказанного ясно, что главной целью программ поддержки в разных ее формах, а также рецептурной модели является не снижение наркотизма или наркомании, а уменьшение преступности вокруг наркотиков и ослабление некоторых других негативных последствий их употребления (например, числа ВИЧ-инфицированных). К другому варианту политики в отношении наркотиков относится модель снижения вреда. Она реализовывается с разной степенью успешности в Голландии, Швейцарии, Англии, Австралии1 и ряде других стран. По сути эта политика довольно эклектична и дифференциальна, она предполагает принятие на вооружение всего лучшего (по мнению ее апологетов), что существует в других подходах к наркотикам, и также включает в себя разграничения по отношению к различным психоактивным веществам. Согласно этой модели, разные наркотики требуют неодинакового к себе отношения, и морального, и юридического: необходимо законодательно разграничить легкие и тяжелые наркотики. Кроме того, считают сторонники этой политики, нужно полностью снять уголовную ответственность с потребителей наркотиков, а также провести четкую юридическую черту между мелкими дилерами и крупными поставщиками, а именно уменьшить наказание за розничную торговлю наркотиками и увеличить его за торговлю крупными партиями. Враг — не наркотики, убеждены сторонники подхода снижения вреда, врагами являются отрицательные последствия наркотиков. Все, что может помочь хоть как-то ослабить эти последствия, необходимо принять на вооружение. Иными словами, «все средства хороши, если они хоть в чем-нибудь продвигают нас к цели», — считают адепты этого подхода. Если же последствия какого-либо подхода вредят больше, чем приносят пользы, от него необходимо немедленно отказаться, для этого не должно быть никаких идеологических или моральных преград. Модель снижения вреда предполагает реализацию следующих мер: бесплатная раздача или обмен шприцов (сторонники этой модели считают СПИД гораздо более серьезной опасностью, чем наркомания); организация программ метадоновой поддержки; открытие «комнат безопасных инъекций» с медицинским персоналом для того, чтобы не допустить скопления наркозависимых в общественных местах и предотвратить передозировки наркотиков; развертывание передвижных лабораторий на молодежных дискотеках, где можно проверить качество и силу таблеток МДМ А («экстази»); декриминализация (но не легализация) хранения и розничной продажи легких наркотиков; декриминализация хранения (но не продажи) малых количеств тяжелых наркотиков и другие меры (Nadelmann, 1992). Вышеперечисленные подходы к регулированию немедицинского употребления наркотиков не являются взаимоисключающими. Так, в США, где антинаркотическая политика — одна из самых жестких среди западных стран, достаточно активно внедряются программы снижения вреда (хоть и в недостаточных, по мнению сторонников этой политики, объемах), существуют и метадоновые программы (опять-таки, в масштабах, не удовлетворяющих тех, кто ратует за более широкое их внедрение); даже в Швеции, на которую так любят равняться сторонники жесткого подхода к наркотикам, есть высокопороговые, т. е. труднодоступные, метадоновые программы. В то же время в либеральной Голландии две трети бюджета, предназначенного для противостояния наркотизму, идет силовым ведомствам на борьбу с наркотиками и на расследования преступлений против собственности, совершенных наркозависимыми. Кроме того, в западных странах, в особенности в США, немалая роль в определении государственной антинаркотической политики отводится рыночным механизмам. К примеру, если в России дебаты вокруг метадоновых программ в основном сводятся к вопросу, нужно их разрешать или нет, то в Америке одним из главных спорных моментов в полемике о таких программах стал вопрос их государственного финансирования. Это же справедливо и в отношении других мер снижения вреда. Так, в США несмотря на то что программы по обмену шприцев абсолютно легальны, запрещено их финансирование из федерального бюджета. Там же постоянно идут дебаты о том, должна ли наркомания входить в перечень болезней, покрываемых основным страховым полисом. Несмотря на то что сторонники политики снижения вреда именуют ее самой прагматичной из всех возможных и свободной от идеологии, она также не дает ответа на вопрос, поставленный в начале этой главы, а именно: как соизмерять негативные последствия различного рода? Что, если некоторые меры такой политики приведут к снижению количества смертей от передозировок, но к увеличению количества наркозависимых (что, как утверждают противники этого подхода, может быть результатом принятия таких законов)? Или в результате такой политики уменьшится преступность, но возрастет наркотизм? Такая политика, как и всякая другая, не способна дать ответы на эти вопросы исключительно эмпирическим путем. Поэтому утверждение многих ее сторонников, что эта модель свободна от идеологии, является мифом; она не менее пронизана идеологией, чем самый жесткий прогибиционизм. В то же время нужно подчеркнуть, что эмпирические исследования наркотизма необходимы для оценки различных рисков, связанных с принятием решений, касающихся антинаркотической политики. Эмпирические выводы не позволят вынести вопросы, связанные с немедицинским употреблением наркотиков, на уровень исключительно технической проблемы, и базовые решения в антинаркотической политике будут основываться на ценностном и идеологическом выборе общества (или представляющих его законодателей). Но эмпирические исследования в состоянии прояснить многое, в том числе и развеять множество мифов, окутывающих проблему наркотиков. Среди таковых утверждение, что программы по обмену шприцев несут в себе «неправильный месседж», легитимизируют потребление наркотиков и способствуют вовлечению в наркоманию новых потребителей, выдвигаемое прогибиционистами и у нас, и на Западе. Оно никоим образом не подтверждается эмпирически. Там, где такие программы были введены, никакого всплеска наркомании не последовало. Крайне сомнительным выглядит и тезис о том, что легкие наркотики непременно ведут к переходу на тяжелые; эмпирический анализ, опровергающий это широко распространенное заблуждение, был осуществлен вышеупомянутым Э. Гудом (1972). В среде российских наркологов оно встречается особенно часто. В доказательство приводится факт, что практически все потребители тяжелых наркотиков начинали с легких. Это действительно так. Но ведь речь идет лишь о тех потребителях легких наркотиков, которые перешли на тяжелые и вследствие развившейся наркомании попали в поле зрения медицинских органов. Те же, кто употреблял легкие наркотики, но не перешел на тяжелые, к наркологам не обращаются ввиду отсутствия такой надобности. Поэтому нашим медикам о них ничего не известно. Для того чтобы действительно доказать тезис о «конвейерной ленте» перехода с марихуаны на героин, нужно рассмотреть всех потребителей первой и сравнить, сколько из всех тех, кто пробовал или употреблял марихуану, переходят на тяжелые наркотики, а сколько — нет. Говоря социологическим языком, выводы российских наркологов основаны на скошенной и предвзятой выборке. Это все равно что прийти в железнодорожный травмпункт, где лежат пострадавшие от происшествий на железной дороге, и рассуждать о том, как опасно переходить рельсы, обосновывая это тем, что все, кто в нем находится, попали туда именно таким образом. Но ведь со многими из пересекших рельсы ничего не произошло! Конечно, это не довод в пользу безопасности легких наркотиков. Это лишь иллюстрация той ущербной логики, которая зачастую распространена в среде российских наркологов. Легализация легких наркотиков не обязательно приводит к большому их употреблению: в Голландии в 1970-х гг. до легализации легких наркотиков их употребляли больше, чем в 1980-х гг., когда эти наркотики стали продаваться легально (van de Wijngaart, 1990). Это можно объяснить тем, что 1970-е гг. подошли к концу и эпоха хиппи с ее культом марихуаны завершилась. В 1980-е гг. пришли совершенно другие ценности: стало модно быть «богатым и здоровым», а наркотики, в том числе и легкие, никак в такую моду не укладывались. Именно наступлением эры «яппи» с ее фетишизацией денег и материального успеха, а также с возвращением к консервативным «семейным ценностям» большинство наблюдателей связывают резкое снижение потребления наркотиков в Америке в тот период. Абсурдным выглядит утверждение некоторых российских наркологов (например, Надеждина, 2002), что более эффективное лечение наркомании будет способствовать вовлечению новых потребителей наркотиков: раз, мол, вылечиться от наркомании можно и сделать это нетрудно, то все подряд начнут употреблять наркотики. Точно так же на Западе консерваторы аргументируют сокращение помощи наркозависимым, ибо сегодняшний ее размер дает им возможность вести более или менее сносное существование и тем самым показывает, что участь наркозависимого не столь ужасна. Не думаю, что это так. Вряд ли люди согласны влачить жалкое существование наркомана (хоть и под присмотром врачей и социальных служб), и лишь физическая смерть от наркотиков или страх уголовного преследования способны их отпугнуть. Никто не стремится, например, стать бомжем... Для выяснения такого рода вопросов как раз и требуется проведение масштабных эмпирических исследований. Пессимизм вызывает скорее другое обстоятельство. А именно насколько такие исследования востребованы? Учитываются ли они законодателями и как используются? не происходит ли манипулирования результатами научных изысканий для "рационального" обоснования своей идеологизированной точки зрения, когда совершается их селективный отбор и все данные, эмпирически подтверждающие ее, принимаются безоговорочно, а находящиеся в противоречии отбрасываются без рассмотрения? К сожалению, как правило, именно так и обстоит дело. Например, чиновники ФСКН предпочитают приводить данные исключительно за последние десять лет, свидетельствующие о драматическом росте наркомании в России. Спрашивается, почему не за три года? А если бы за три, получилось бы примерно следующее: «Россия подошла к порогу национальной катастрофы. Заболеваемость наркоманией у подростков снизилась на 43%. Героин выходит у молодежи из моды. Необходимы срочные и решительные меры для спасения молодого поколения России». Выглядит абсурдно, поэтому не очень убедительно. Американский социолог Н. Мекэник (1975) писал, что, «хотя и возможно найти такие примеры, когда люди, облеченные официальной ответственностью, оправдывали ту или иную политику с помощью отсылки к данным исследований, существует крайне мало доказательств того, что начало этой политики было положено на основе этих данных». А социолог Л. Росс (1987) приходит к еще более горькому и пессимистическому выводу, когда рассматривает влияние своих исследований о вождении в состоянии алкогольного опьянения и методах борьбы с ним, которым он посвятил десятки лет своей жизни. Трудно удержаться, чтобы не привести эту цитату. «Возможно, самый главный урок, который я извлек, заключался в том, что роль исследований состоит не в том, чтобы служить руководством для политиков при принятии решений и взвешивании возможных альтернатив. Скорее результаты исследования служат простой рационализацией для позиции, которую политик уже занял на основе предыдущих убеждений, не имеющих к науке никакого отношения». Именно идеология и политика определяют основные пути решения проблемы наркотиков, а эмпирические данные, как правило, служат лишь инструментом их оправдания и придания легитимности. 3. Сравнительный анализ российского и западного дискурсов о наркотиках: сходства и различия Если рассмотреть современную ситуацию с наркотиками в России, нельзя не заметить весьма значительное сходство ее с западной, что проявляется и в уровне наркотизации населения, и в плоскости идеологического противостояния между либералами и консерваторами. Параллелизм аргументов, выдвигаемых различными сторонами на. идеологических дебатах о наркотиках, делает понятным нежелание известного французского философа М. Фуко делить современную дискурсивную формацию (структуру знания, задающую общие представления о мире) на «западную» и «советскую». Действительно, несмотря на многочисленные идеологические различия между развитыми западными странами и Советским Союзом в подходах к экономике, правам человека и т. п., доминирующие представления о норме и патологии, здоровье и болезни, легитимном и нелегитимном удовольствии и множестве других оппозиций, характеризующих дискурсивную формацию, были достаточно близкими. Именно в едином дискурсивном основании западных стран и России надлежит искать причины схожести логики, лежащей в основе аргументации как консерваторов, так и либералов, выдвигаемой ими в пользу тех или иных мер антинаркотической политики. С одной стороны, это связано с тем, что и Россия, и Запад в течение долгого времени развивались в русле единой иудеохристианской цивилизации с близкими представлениями о праведности, грехе, искушении плотскими соблазнами и т. п. С другой стороны — с тем, что последние триста лет в Европе происходили процессы модернизации, в ходе которой научные представления о норме и патологии, здоровье и болезни к моменту возникновения проблемы наркотиков уже прочно укоренились как в России, так и на Западе. Если сравнить проповеди фундаменталистских американских проповедников о наркотиках и рассуждения о наркомании представителей ультраконсервативного крыла Русской Православной Церкви, нельзя не поразиться схожести метафор и образов, в них присутствующих. Вот, к примеру, высказывание американского евангелиста Д. Роббинса: «Замыслы Сатаны лежат в основе разрушительной природы наркотиков, Они - его инструменты, которыми он достигает своих нечистых целей, одурманивая людей наркотиками. Понимание связей наркотиков с Сатаной должно убедить христиан, что употребление наркотиков несовместимо с христианским стилем жизни» (Robbins, 1990). А это цитата из статьи Митрополита Бишкекского и Среднеазиатского Владимира: «Верующий человек с помощью воздержания, молитвы и Таинств Церкви бдительно охраняет свой внутренний мир от заражения нечистыми страстями, от проникновения злых духов. Тот, кто решил "попробовать" наркотик, поступает прямо противоположным образом: посредством дурманящего зелья, словно отмычкой, он отпирает и распахивает настежь свою душу, — как бы приглашая злобных демонов: пожалуйста, входите! И в душу несчастного входят и воцаряются в ней эти страшные "господа"». Представления христиан различных деноминаций о грехе, разврате и нелегитимном удовольствии уже давно сформированы и теперь транслируются совершенно независимо через религиозные институты, разделенные не только колоссальным расстоянием, но и накалом взаимной ненависти. Представления христианских фундаменталистов о гомосексуальности, СПИДе, порнографии и ряде других «аморальных» феноменах практически тождественны в различных деноминациях, что свидетельствует о единой основе консервативного христианского дискурса. Однако может возникнуть вопрос: неужели в нынешней России, подвергавшейся насильной секуляризации коммунистическим режимом в течение семидесяти лет, так сильны христианские представления о пороке, добре и зле? Ведь христианский дискурс о наркомании (в отличие от Запада) стал заметен на российской публичной арене сравнительно недавно, а подавляющая часть российского населения не является ортодоксальными верующими. В то же время опросы общественного мнения говорят о том, что огромная часть россиян занимает моралистическую позицию по наркотикам, схожую со взглядами религиозных моралистов. К тому же и в начале перестройки, когда роль церковных институтов была чрезвычайно невелика, советские граждане проявляли крайнюю интолерантность по отношению к различного рода девиантам, будь то гомосексуалы, проститутки или потребители наркотиков. Откуда же тогда такое сходство с западными моралистами? Иными словами, почему советские представления о морали и нравственности столь схожи с теми, что существуют у ортодоксальных верующих как у нас, так и за рубежом? Ответ заключается в том, что Советская власть после краткого периода либерализации отношения к различного рода девиациям, включая наркотизм, продолжавшегося в течение 1920-х гг., стала приобретать все более и более тоталитарный характер. Это выразилось, в частности, в укреплении моральных границ, отделяющих «настоящих советских людей» от различного рода «антисоциальных элементов». При этом сами категории девиации были заимствованы из старой дореволюционной России, но их интерпретация оказалась лишена религиозного содержания: девианты (проститутки, гомосексуалы, потребители наркотиков) рассматривались более не как нарушители традиционного морального уклада, сформировавшегося под влиянием христианства, но как лица, подрывающие нормы советской морали. Таким образом, произошла секуляризация девиантности, когда религиозное ценностное содержание было подменено светским коммунистическим, при этом сами категории девиации остались в основном теми же, какими были до большевистского переворота. «Грешники» и «заблудшие» старой дореволюционной России стали «аморальными типами», «извращенцами» России советской. Такая преемственность в наполнении категорий девиантности как раз и может объяснить поразительное сходство в воззрениях на девиантность (и наркотизм) западных религиозных моралистов, религиозных ортодоксов современной России и «простых советских людей». Другая причина параллелизма аргументов в дискуссиях о наркотиках в России и на Западе — в единстве научного мировоззрения, и у нас и на Западе развивавшегося по общим канонам, основанным на рационализме и эмпиризме. Этот факт достаточно очевиден и не требует иллюстраций. В основании идеологии прогибиционизма и в российском, и в западном вариантах лежат не только моралистические представления о пороке и добродетели. В не меньшей степени такая идеология основывается на представлениях (идущих со времен Просвещения), что каждый полноценный член общества должен быть «нормальным» индивидом со здоровым, рациональным разумом. Наркомания (как и любое другое психическое заболевание) в этом светском варианте прогибиционизма служит препятствием для осуществления индивидом рационального выбора. И долг специалистов, обладающих необходимыми знаниями, заключается в том, чтобы вылечить больного и заставить его быть рациональным. В психиатрии базовые понятия советских медиков и их западных коллег были практически тождественны до 1950-х гг., после чего на Западе под давлением общественного мнения произошла заметная гуманизация в этой области. У нас же, в условиях тоталитарного государства, психиатрия до начала перестройки (а в значительной степени и после нее) сохранила первозданный вид с жесткими практиками исключения и деления населения на «нормальных» и «больных», требующих неусыпного контроля за последними даже без их согласия. Как отмечал В. Д. Менделевич (2004): «Отечественные наркологи, диктовавшие властям предержащим, что полезно обществу, а что вредно, не изжили патерналистского мышления и советских репрессивных традиций по отношению к больным алкоголизмом и наркоманией. Именно поэтому вновь был поднят вопрос об ЛТП, принудительном лечении и недобровольном освидетельствовании. В новых условиях была даже придумана новая модель — признать наркоманию психической болезнью психотического уровня с вытекающими из этого факта последствиями в виде возможности недобровольной госпитализации». Вот почему, когда читаешь многие современные российские работы по наркологии, поражаешься их сходству со «старыми» западными исследованиями: и в тех и в других царит патернализм и пренебрежение правами больного. В то же время нельзя не отметить появление либерального крыла российских наркологов, которые принципами своей деятельности не отличаются от западных коллег. Можно констатировать, что современная позиция российских консерваторов в области наркополитики, с одной стороны, основана на жестком морализме, идущем с советских времен, а с другой — на традициях советской психиатрии, когда та выступала в качестве агента социального контроля, насильственно «вразумляющего» больного индивида. До сих пор в этой главе обсуждались общие тенденции в позиции по наркотикам российских и западных консерваторов; в то же время аргументы либералов в области антинаркотической политики и у нас, и на Западе не менее схожи между собой. На Западе толерантный подход к употреблению наркотиков идет от традиции либерализма в отношениях между государством и индивидом, отдающей приоритет правам человека и свободе выбора (если это не связано с причинением вреда другим индивидам), в том числе и в предпочтении жизненного стиля, который может оказаться деструктивным для самого индивида. Классическим сочинением, «манифестом либерализма» является трактат социального мыслителя Дж. С. Милля «О свободе», содержащий, в частности, следующий пассаж: «Единственным принципом, на основании которого человечество (индивидуально или коллективно) имеет право вмешиваться в свободу действий любого из своих членов, — это самосохранение. Единственной целью, во имя которой справедливо может быть применена власть над членом цивилизованного сообщества и против его воли, является предотвращение вреда другим. Его собственное благополучие, физическое или ментальное — недостаточное основание для применения власти» (Mill, 1859). Однако, если параллелизм или прямое тождество аргументации консерваторов в России и на Западе объясняется общностью христианской традиции и научного дискурса о норме и патологии, а развитие этой аргументации, применительно к проблеме наркомании, шло независимыми путями, то в случае с аргументацией либералов ситуация принципиально иная. Дискурс прав человека, лежащий в основе либеральной политики в области наркотиков, тоже присутствовал в дискурсивном пространстве дореволюционной России. Это волновало как революционных демократов, так и умеренных либералов. Тем не менее после победы одного из течений революционных демократов (большевиков) дискурс прав человека был задавлен идеологией коллективизма и этатизма (другими составляющими революционной идеологии). Вслед за этим он стал фигурировать лишь в качестве набора пустых демагогических клише советской пропаганды (вроде пресловутого «права на труд», когда человек, отказывавшийся от этого права, отправлялся за решетку как «тунеядец»). Так получилось, что дискурс прав человека стал для большевиков только инструментом для прихода к власти, помогая мобилизовывать рабочих на забастовки и вербуя в ряды революционеров идеалистов-интеллектуалов, возмущенных множеством несправедливостей, которых в царской России действительно было «несть числа». После прихода большевиков к власти дискурс прав человека постепенно выродился в пустую риторику, уступив место утопическому коллективистскому дискурсу «построения коммунизма». Ростки же либерального движения, появившегося в конце XIX в., яркими представителями которого стали конституционные демократы (Милюков, Набоков-старший), были задушены большевистской революцией. После этого в течение десятков лет, вплоть до начала перестройки, либерализма как доктрины, воплощенной в какие-либо социальные институты, в России (Советском Союзе) не существовало. Конечно, в СССР были диссиденты, занимавшиеся правозащитной деятельностью, но их активность была настолько маргинализирована советским репрессивным аппаратом, что говорить об их влиянии на государственную антинаркотическую политику и на институт психиатрии не приходится. Наоборот, словно по иронии судьбы, наблюдалось обратное воздействие института психиатрии на интеллектуалов: подчас за свою правозащитную деятельность диссиденты оказывались в психиатрических стационарах. Поэтому, когда во время перестройки произошло реформирование системы психиатрической и наркологической помощи, а также смягчение уголовного законодательства в отношении употребления наркотиков, в России отсутствовало сильное либеральное крыло специалистов-наркологов, имеющих давнюю традицию продвижения более гуманного подхода к наркозависимым с развитой (и одновременно приспособленной к российским реалиям) системой аргументации. Либеральный подход к наркотикам (и легитимирующая его система аргументации) в России, в отличие от Запада, не формировался внутренне в течение долгих лет, а практически в одночасье (в историческом масштабе, конечно) был заимствован у либерального крыла западных специалистов, занимающихся проблемой наркомании. Инструментом трансляции этих представлений в зарождающемся гражданском обществе служили, прежде всего, движения, защищающие права человека, ряд из которых институционально поддерживался западными правозащитными организациями. Естественно, заимствование либеральной аргументации в отношении употребления наркотиков было только частью общих тенденций обоснования в России дискурса прав человека. Тогда как на Западе он существовал на протяжении десятилетий или даже столетий, включая и аргументацию по либеральной антинаркотической политике. Этим генеалогия либеральной аргументации в России отличается от генеалогии аргументации консервативной: если источник первой — это дискурс прав человека, до этого отсутствовавший в Советском Союзе и появившийся на публичной арене лишь во времена «второго прихода либерализма» в России, то источник второй — развивающийся параллельно с западным дискурс о морали, норме и патологии. Именно в недолгом (пока) существовании либерального дискурса о наркотиках и отсутствии большого числа специалистов, на него ориентированных, — одно из объяснений слабости влияния этого дискурса на современную антинаркотическую политику в России. Ведь власть дискурса неотделима от власти институций, в которых он создается и транслируется. Консервативная позиция по наркотикам воспроизводится внутри мощных институций органов правопорядка и здравоохранения, обладающих долгой историей трансляции этих представлений, развитой и многочисленной системой кадров и сильным влиянием на формирование государственной политики в отношении наркотиков. Либеральная же позиция воспроизводится главным образом внутри правозащитных организаций, имеющих короткую историю существования, немногочисленные (по сравнению с силовыми и медицинскими институтами социального контроля) кадры и относительно слабое влияние на государственную политику. Конечно, нельзя сказать, что за либеральной позицией стоят одни лишь правозащитники. Ее также поддерживает ряд социологов, психологов, медиков и юристов, убежденных в бесперспективности силового подхода к решению проблемы наркомании. Но пока они остаются в явном меньшинстве, их возможности по воздействию на процесс принятия решений в области наркополитики весьма ограничены. Однако следует обратить внимание на различие между Россией и Западом в идеологическом противостоянии между либералами и консерваторами, несмотря на бросающиеся в глаза некоторые аналогии. Это противостояние в области регулирования потребления наркотиков и в России, и на Западе идет вдоль схожих позиций, структура аргументации и тех и других во многом идентична. Причины гомологии этой аргументации объясняются тем, что в ее основании лежит единая дискурсивная формация, характеризующая разные страны, т. е. похожая структура представлений, знаний и правил высказывания о грехе и добродетели, норме и патологии, индивиде и его связи с коллективом. Тем не менее подобная схожесть в аргументации не означает тождества в расстановке сил в идеологическом пространстве. То есть, даже если стороны говорят примерно одно и то же, из этого не следует, что они оказывают одинаковое влияние на политику в отношении наркотиков и что они состоят из одних и тех же социальных и профессиональных групп. Один из основных моментов, отличающих российскую ситуацию от западной, — это доминирование прогибиционистской аргументации в идеологическом пространстве и маргинальное присутствие в нем либеральной. На Западе (даже несмотря на то, что он неоднороден, и наркополитика там варьируется от страны к стране) либеральные силы обладают большим общественным влиянием, многочисленны и состоят из самых различных социальных и профессиональных групп (включающих правозащитников, социологов, психологов, медиков, юристов, представителей силовых структур и политиков высокого ранга). В России практически все идеологическое пространство занято прогибиционистами, а сторонники либеральной линии в отношении употребления наркотиков представлены в нем лишь незначительно, влияние их невелико, а социальный состав гораздо более однороден (в основном это правозащитники и крайне немногочисленные представители профессиональных групп: медиков, юристов, социологов и психологов). Иными словами, дискурс о наркотиках в России гораздо более монолитен по сравнению с западным и смещен в сторону прогибиционизма. Такой перекос выражается и в соответствующей наркополитике. Прогибиционисты видят в ней одну основную цель — сократить (а в радикальном варианте и свести на нет) численность людей, употребляющих психоактивные препараты, определенные как наркотические; все остальные вопросы, такие как распространение инфекционных заболеваний, качество жизни употребляющих наркотики, количество людей, злоупотребляющих легальными психоактивными веществами (никотином и алкоголем) и пр., представляются им либо проблемами, логически подчиненными главной задаче, либо не связанными с ней, либо малозначимыми. В то же время в Европе дискурс о наркотиках гораздо более плюралистичен, что выражается и в его влиянии на меры, принимаемые в отношении употребления психоактивных веществ. Как следует из доклада Европейского центра мониторинга за наркотиками (EMCDDA, 2002), в странах ЕС наблюдается некоторая конвергенция подходов к наркотикам: есть некоторые ужесточения политики в либеральных странах — Голландии, Испании и, наоборот, ее смягчение в государствах, опирающихся на репрессивные методы в антинаркотической политике — Швеции, Франции. Во всех национальных политических и законодательных инициативах стран Европы ставится цель реализовать сходные социальные меры и способы охраны общественного здоровья. Во-первых, предлагается подходить ко всем наркотическим препаратам вне зависимости от их легального статуса. То есть теперь борьбу с наркотиками не будут считать принципиально отличной от борьбы с алкоголем и никотином, т. к. последние представляют опасность для общественного здоровья подчас не меньшую, чем запрещенные вещества. Для того чтобы уменьшить количество потребляемого алкоголя и никотина, предполагается ограничить рекламу этой продукции, а также увеличить ее налогообложение. Во-вторых, планируется не на словах, а на деле уменьшить ответственность простых потребителей наркотиков, ведь до сих пор во всех странах ЕС, кроме Норвегии, Нидерландов, Италии и Испании, основными преступлениями, связанными с наркотиками, о которых сообщает полиция, остаются употребление наркотиков и их хранение. В-третьих, пришло понимание невозможности просто бороться с самим употреблением наркотиков, оставляя без внимания такие гибельные последствия наркотизации, как ВИЧ, вирусные гепатиты и преступления ради добычи наркотиков. Именно поэтому во многих странах идет расширение законодательной базы для программ метадоновой поддержки, признанных эффективными в снижении этих вредоносных последствий. Среди стран-участниц ЕС растет согласие по поводу того, что эффективный подход к проблеме наркотиков включает в себя снижение сопутствующих заболеваний наркозависимых и смертности, связанной с употреблением наркотиков, снятие с таких людей клейма и избавление их от социального исключения. А также передачу случайным (нерегулярным) потребителям правдивой, а не основанной на лжи и страхе информации о различных наркотиках и их потенциальной опасности. Второе важное отличие российского идеологического пространства от западного — профессиональный состав групп, занимающих противоположные позиции в области регулирования потребления наркотиков. Особенно четко это проявляется в отношении двух профессиональных объединений — медиков и представителей силовых ведомств. Несмотря на то что, как указывалось выше, на Западе (особенно в США) позиция человека в отношении употребления наркотиков не является жестко детерминированной и непременно связанной с его профессиональной принадлежностью, все же можно отметить следующую тенденцию: как правило, представители силовых ведомств занимают более консервативную и прогибиционистскую позицию, в то время как медики (в целом как профессиональная группа) чаще придерживаются либеральных взглядов (даже если это умеренный прогибиционизм). Именно эта группа на Западе стала одним из главных адвокатов проектов снижения вреда, таких как обмен шприцев и программы метадоновой поддержки. В России же такое деление выражено очень слабо. И медики, и представители силовых ведомств склонны поддерживать прогибиционистскую политику в отношении употребления наркотиков, а программы заместительной терапии вызывают у них практически одинаковую степень отторжения. Третье отличие российской ситуации от западной заключается в отношении консерваторов к либералам. В странах Запада дебаты о наркотиках имеют в основном идеологический характер. Суть его состоит в том, что стороны по-разному понимают права и обязанности индивида, имеют разные представления о моральных границах, придерживаются различных взглядов на общественное благо и способы его достижения. Так, консерваторы адресуют либералам упреки в.«мягкотелости» и неправильном видении ситуации с наркотиками. В то же время обвинения в их продажности и лоббировании интересов фармацевтических компаний, выпускающих метадон, в пропаганде наркотиков и продвижении интересов международной наркомафии не присутствуют в общественном дискурсе. Совсем иная ситуация наблюдается в России. Здесь обвинения либералов в ангажированности и корыстных интересах со стороны консерваторов — одно из важнейших средств, используемых для убеждения аудитории. Российские консерваторы ставят перед собой задачу не столько ответить на аргументы противоположной стороны, сколько скомпрометировать противника и показать его позицию с точки зрения личной (материальной) заинтересованности. Иногда в России наблюдаются попытки не только скомпрометировать либералов, но и криминализировать их, т. е. сделать преступниками. Проанализировав некоторые отличия российского дискурсивного пространства от западного, попробуем теперь разобраться в особенностях российского дискурса о наркотиках. Прежде всего объяснить его монолитность. Итак, почему же российский дискурс о наркотиках столь монолитен и так сильно смещен в сторону прогибиционизма по сравнению с западным? Первая причина заключается в слабом развитии в России институтов гражданского общества. Так, в нашей стране практически нет общественных организаций, отстаивающих интересы потребителей наркотиков. Слабо представлены на общественной арене и силы, считающие войну с наркотиками бесперспективной. Эти силы призывают канализировать общественные ресурсы не только на силовые и медицинские ведомства, ориентированные на снижение числа наркопотребителей, но и на меры, помогающие улучшить качество жизни наркозависимых (без обязательного отказа от наркотиков) и другие мероприятия, выдвигаемые в рамках концепции снижения вреда. Вторая причина — это дискурс исключения уязвимых групп, идущий еще с советских времен, и воспроизводившиеся десятилетиями практики государственных институций с акцентом на силовые методы в решении проблем, затрагивающих общественную мораль. Поскольку в официальном советском дискурсе социальные условия при социализме не могли порождать различные девиации, в том числе и наркотизм, вся вина за девиантное поведение целиком ложилась на индивида. При этом он попадал либо в категорию «морально неустойчивого», поддавшегося западным соблазнам, разложившегося и подлежащего исправлению в ИТП, либо в категорию «больного», требовавшего принудительного лечения. Третья причина — ригидность функционирования в России одного из основных институтов, на Западе служащего двигателем гуманизации отношения к наркозависимым и перемен в области наркополитики, — института медицины в целом и наркологии в частности. Сообщество наркологов как профессиональная группа оказалось крайне невосприимчиво к новым в мировой практике подходам к проблеме наркотиков и новым технологиям снижения рисков, связанным с их потреблением. В. Д. Менделевич (2005) пишет: «Уже минимум как десять лет российская наркология живет в новых условиях. С одной стороны, существенно и кардинально изменилась структура наркологической заболеваемости — дала о себе знать и стала преобладающей наркомания. С другой - изменились требования общества ко всей системе оказания медицинской помощи, в том числе и наркологической, появилось понятие "право пациента на информированное согласие на лечение", право на гуманное отношение и пр. Однако отечественная наркология продолжает жить старыми наработками, традициями, принципами и не желает учитывать реальность». К числу «старых» советских практик относится и механизм «диспансерного учета», существующий в российской наркологии. О его негативном влиянии в деле оказания наркологической помощи пишут В. Подколзин и А. Фимушкин: «Термин "диспансерный учет" в наркологии стал равнозначным неснятой судимости. Прошло уже почти двадцать лет, мы живем уже в новой стране, а идеология оказания наркологической помощи и методов противодействия распространению потребления ПАВ осталась такой, каковой она была определена постановлением ЦК КПСС и советского правительства». Четвертая причина заключается в отсутствии у большинства российских социологов (еще одной из важнейших сил, меняющих традиционный дискурс о наркотиках на Западе) собственной независимой и наполненной социологической рефлексией позиции по наркотикам. Большинство российских исследователей «социологии наркотизма» занимаются обслуживанием и подтверждением доминирующих медицинских и юридических теорий, их легитимацией, а также тиражированием различных клише массового сознания, «проверенных» на больших выборках. Пятая причина монолитности российского дискурса о наркотиках — чрезмерная зависимость СМИ от первичных определителей ситуации (т. е. тех, кто обладает правом легитимной экспертизы в социальной проблеме наркотиков) — представителей силовых и медицинских ведомств, и отсутствие у большинства журналистов критической позиции по отношению к ним. Эта ситуация особенно четко прослеживалась в период моральной паники вокруг наркотиков, наблюдавшейся в 1998-2001 гг., после чего положение несколько выровнялось. В настоящее время дискурс СМИ о наркотиках стал заметно более плюралистичным (Мейлахс, 2004). Шестая причина — консерватизм общественного мнения, особенно избирателей старшего возраста, для которых наркотики продолжают ассоциироваться с заграничной «чумой», а наркопотребители — с «зачумленными». Седьмая причина — консерватизм политиков, с одной стороны, находящихся под влиянием коллективных представлений о наркотиках, сформированных во времена советского прошлого, а с другой — чувствительных к общественному мнению и в погоне за политическим капиталом не желающих идти на меры, непопулярные в глазах общественности. Наоборот, во времена предвыборных кампаний жесткая позиция в отношении наркотиков служит механизмом привлечения голосов избирателей. Трудно определить, насколько весома каждая из вышеперечисленных причин, поскольку здесь наблюдается сложный диалектический механизм взаимного влияния факторов. С одной стороны, коллективные представления о наркотиках, десятилетиями существующие в обществе, структурируют дискурсивные практики самых различных институций и факторов (силовые ведомства, органы здравоохранения, СМИ и агенты политического поля). Индивиды, принадлежащие к этим институциям, прошли процесс социализации еще до того, как выбрали свою профессиональную карьеру. В процессе этой социализации они «впитали» доминирующий дискурс о наркотиках, который позже стал транслироваться в соответствующие дискурсивные практики в их деятельности внутри этих институций. С другой стороны, сам доминирующий дискурс о наркотиках не смог бы существовать, если бы он постоянно не воспроизводился внутри различных профессиональных институций, которые и способствуют сохранению коллективных представлений о них. Невозможно определить, что здесь первично, а что вторично. Во многом это напоминает известную проблему «курицы и яйца». Однако не следует переоценивать влияние различных элит, профессиональных институций и СМИ на коллективные представления, как это делают многие социологи, считающие, что этим группам принадлежит решающая и чуть ли не единственная роль в конструировании социальных проблем и что эти группы жестко формируют представления в общественном сознании о каждой из них. Часто усилия элит и профессионалов навязать свои представления о каком-либо негативном (с их точки зрения) феномене наталкиваются на сопротивление масс: такова была реакция на проблему алкоголя в первые годы перестройки. 4. Наркотик как «загрязняющее» вещество, или Куда «исчезают» дети? Почему же в российском обществе в целом и в сообществе наркологов в частности существует такая непримиримая позиция в отношении употребления наркогиков в немедицинских целях? Выделение наркологов в отдельную категорию обусловлено тем, что они, казалось бы, должны лучше остальных понимать реальные угрозы потребления различных наркотиков, основываясь на рациональных, а не на моралистических соображениях, стремиться к облегчению положения наркозависимых, исходя из принципов медицинской этики, и ставить перед собой достижимые, а не «желательные», утопические задачи. Тем не менее зачастую этого не происходит. В работе «Современная российская наркология: парадоксальность принципов и небезупречность процедур» В. Д. Менделевич (2004) проводит критический анализ принципов современной российской наркологии. Он указывает на ряд парадоксов, стоящих перед российской наркологией, среди которых особо выделяются «парадоксальность принципа цели» и «парадоксальность этических принципов». Парадоксальность принципа цели заключается в том, что российские наркологи ставят перед собой задачи излечения пациентов «любой ценой». Можно сказать, что большинству российских наркологов присуща максималистская позиция — все или ничего. При этом люди, неспособные полностью отказаться от наркотиков, так сказать, выбрасываются за борт: сохранение, продление и повышение качества их жизни не входят в задачи отечественной наркологии. Парадоксальность принципа цели, когда единственными легитимными субъектами медицинской помощи являются лишь те, кто способен полностью отказаться от употребления наркотиков (несмотря на то, что такие люди составляют меньшую часть из всего количества наркозависимых, нуждающихся в медицинском внимании), тесно смыкается с парадоксальностью этических принципов современной российской наркологии. Последняя видна в том, что врачи ставят перед собой цель действовать не во благо больному, а решать общественные проблемы путем принудительной изоляции своих пациентов (речь идет о принудительном лечении, за которое ратуют многие современные российские наркологи). Тем самым нарушается принцип биомедицинской этики, когда медицинский работник превращается из врача в социального инженера. Один из ключевых выводов, касающихся ситуации в российской наркологии, — что методы ее функционирования на современном этапе сложно оправдать, основываясь исключительно на рациональных соображениях. Трудно их оправдать и исходя из принципов биомедицинской этики. Если даже отечественные наркологи, обязанные по долгу службы обладать наиболее полным знанием о наркомании, оказываются во власти коллективных представлений, оправдывающих репрессивные меры воздействия по отношению к потребителям наркотиков (такие, как их принудительное лечение), то трудно ожидать взвешенного подхода к проблеме наркотиков от более широкой аудитории — «обычных людей». Невозможно объяснить непримиримую позицию в отношении употребления наркотиков, существующую в российском обществе, исходя из рациональности и логики. Ведь в России свободно продаются легальные психоактивные вещества — алкоголь и никотин, разрушительные последствия употребления которых в социальном масштабе несравненно большие, чем вред, наносимый наркотиками. Есть и другие социальные проблемы, такие как дорожно-транспортные происшествия и пожары, от которых гибнут десятки тысяч людей ежегодно. Но они не сопровождаются таким общественным интересом и таким накалом страстей, что наблюдается при обсуждении проблемы наркотиков. Одной из важных сторон является анализ механизмов воздействия наркотиков на общественное сознание. Это может звучать как парадокс: принято считать, что наркотики воздействуют на индивидуальное сознание потребителя, но такой взгляд представляется слишком упрощенным, поскольку употребление наркотиков —социальный феномен. Причем феномен, оказывающий подчас не меньшее, если не большее, влияние (пусть и не фармакокинетическое) на сознание тех, кто не употребляет наркотики, чем на психику тех, кто их использует. Действительно, влияние наркотиков на сознание студента, балующегося марихуаной на вечеринках, ограничивается лишь временем ее употребления. Сознание же некоторых активистов антинаркотических движений пронизано проблемой употребления наркотиков настолько сильно, что они решают посвятить «войне с наркотиками» всю свою жизнь. Для того чтобы попытаться определить механизмы воздействия наркотиков на общественное сознание, попробуем взглянуть на проблему наркотизма с позиции активно развивающейся в последние годы социокультурной теории рисков. В современном обществе понятие риска занимает все более важную роль на арене общественного дискурса. Появилось даже новое название для современного типа общества — «общество риска», введенное в оборот социологом У. Беком (2000) в 1986 г. Концепция риска отлична от понятия опасности: опасность — это то, что существует в объективном мире и несет нам угрозу, в то время как риск — эта субъективная оценка вероятности того или иного опасного события. Действительно, как пишет Я. Хэкинг (2003), слово «опасность» в различных европейских языках существовало с незапамятных времен, тогда как появление слова «риск», произошедшего от итальянского «rischio», относится лишь к XVI в. Появление «риска» неслучайно — оно совпадает с подъемом «духа капитализма», описанного М. Вебером (1990), сопровождающегося ростом рационализации предпринимательской деятельности. Рациональная экономическая деятельность стала пониматься как антитеза средневековому авантюризму, полагающемуся на фортуну — удачу, шанс. В противовес этому капиталистическое предпринимательство стремилось снизить неопределенность окружающей среды путем расчетов всевозможных рисков, оценки вероятности наступления тех или иных благоприятных и неблагоприятных событий. Как раз в это время появляется институт страхования. К XVII в. вычисление стало доминировать над инстинктом, традицией и жизненной мудростью. В 1658 г. выходит первый учебник по теории вероятности, написанный знаменитым физиком X. Гюйгенсом. К 1960-м гг. появились даже новые профессии, занимающиеся «анализом и менеджментом рисков», которые на Западе заняли нишу в самых различных правительственных и неправительственных институциях (промышленных корпорациях, организациях здравоохранения, структурах безопасности). Одним словом, современное общество не просто «боится» опасных событий и «надеется» на то, что они не произойдут, а оценивает и просчитывает вероятность их наступления. В этом смысле концепцию общества риска следует понимать как растущую рефлексивность человечества по поводу всевозможных опасностей, подстерегающих членов человеческих сообществ, появившуюся в результате всевозрастающей рационализации различных сфер человеческой жизни. В отличие от опасностей, риски не существуют вне нашей оценки и знания о них. Они продукты человеческих вычислений или «прикидок», сделанных для того, чтобы снизить неопределенность окружающего мира. Однако, несмотря на то что эти оценки представляются ценностно-нейтральными и объективными (и различные статистические и математические методы помогают в придании им такой видимости), риски неразрывно связаны с человеческими ценностями и предпочтениями. Риски всегда социально конструируются (что не делает опасности, с ними связанные, менее реальными), и процесс их отбора, суждения по их поводу, распределение ответственности за управление ими и методы их снижения широко варьируются от индивида к индивиду, от группы к группе и от культуры к культуре. Как пишет антрополог М. Дуглас и другие исследователи, риски, которые мы идентифицируем, говорят о наших психологических чертах, культурных предпочтениях, структурах восприятия и институциональной принадлежности не меньше, чем об опасностях, которые существуют во внешнем объективном мире (Douglas, 1992). К примеру, в XIX в. опасность потери чести среди дворянского сословия в России оценивалась гораздо выше, чем опасность потери жизни. Спасая свою честь, люди часто шли на дуэли и рисковали жизнью, тогда как в наше время такой этос практически утратил свою значимость. Таким образом, риск неотделим от ценностей и морали; риск, несмотря на весь флер «объективности» всецело моральная категория. «Нейтральный язык риска— это все то, что у нас есть, для того чтобы связать известные факты существования с конструированием морального сообщества... риск, опасность и грех используются в мире для того, чтобы легитимизировать политику или дискредитировать ее, защитить индивидов от хищнических институций или защитить институции от хищнических индивидов» (Douglas, 1990). Ввиду этого дискурс риска — это одновременно и дискурс ответственности, подотчетности и возмездия. Риск используется как дискурсивная тактика. С ее помощью мы можем обрушиться на наших оппонентов, обвинив их в проведении политики, представляющей угрозу для некоторых социальных групп или общества в целом. Он также используется и для обвинения индивида в аморальности, если его поведение представляет риск для других индивидов. А. Хант (1999) утверждает, что за последнее столетие в обществе значительно изменились способы моральной регуляции индивидов. В XIX в. «мораль» была особой и самостоятельной категорией: поступки, нарушающие ее, оценивались как «аморальные» без обращения к какому-либо дополнительному ресурсу легитимации. По мере либерализации общества мораль стала функционировать через посредничество других дискурсивных форм, наиболее важные из них — дискурсы «вреда» и «риска». Претендующая на ценностную нейтральность концепция вреда заместила концепцию «чистой» морали во многих сферах человеческой жизни, в результате чего для классификации того или иного поступка как «неправильного» стало нужным доказывать, что он наносит вред другим индивидам. Концепция вреда играла ведущую роль в категоризации человеческих действий на протяжении большей части XX в. Однако к его концу на первое место вышел дискурс риска: «неправильные» поступки не обязательно должны наносить вред другим индивидам, достаточно, чтобы они содержали в себе риск такого вреда. Как подчеркивает Хант, моральное измерение вовсе не исчезло из оценки различных форм человеческого поведения, оно лишь оказалось погребено внутри дискурсов, чьи характеристики имеют утилитарное обличие ценностной нейтральности (Hunt, 2003). Экскурс в социокультурную теорию рисков предназначался не для того, чтобы отдать дань последним модным тенденциям мировой социологии. Тема дискурса риска непосредственно связана с целью данной главы — определить механизмы воздействия наркотиков на общественное сознание. Трудно не согласиться с тем, что употребление ряда наркотиков сопряжено с опасностями. Более того, потребители таких наркотиков часто представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Другое дело, что эти опасности возникают в первую очередь не из-за употребления наркотика как такого, а из-за их криминализации, вследствие чего цены на наркотики достигают немыслимых высот и зависимый потребитель вынужден прибегать к различных криминальным деяниям, чтобы обеспечить себя материальными ресурсами для приобретения наркотиков. Может быть, именно опасностью, таящейся в наркотиках и их потребителях, можно объяснить столь выраженную эмоциональную реакцию отторжения, какую они вызывают у большинства населения России? Однако опасностей в жизни много, и на многие из них мы просто не обращаем внимания, хотя некоторые вызывают у членов общества крайне сильную эмоциональную реакцию (волнение, страх, ненависть). Например, одно из легальных психоактивных веществ — алкоголь — подобной реакции не вызывает. Несмотря на то что совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения за период с января по ноябрь 2005 г. оказалось лишь 0,4% от всех выявленных лиц, совершивших какие-либо преступления. Тогда как доля «пьяной» преступности составила в среднем 21,2% всех преступлений (официальная статистика МВД РФ). Можно долго перечислять опасности, грозящие людям: такие как техногенные и природные катастрофы, глобальное потепление климата, вирусные инфекции, дорожно-транспортные происшествия, болезни и т. п. Но они, однако, не сопровождаются приступами общественной паники наподобие периодически возникающих по поводу наркотиков в России, Америке и других странах. Так что же характеризует опасности, которые переживаются членами данного сообщества особенно остро? Что отличает, выделяет их настолько, что связанные с ними риски входят в «портфель рисков» этого сообщества? Вслед за М. Дуглас (1982) Я. Хэкинг определяет «портфель рисков» как набор надежд (но в особенности и страхов), которые воздействуют на коллективные чувства с большой силой, вызывают особую обеспокоенность и порождают сильное желание что-либо сделать в их отношении (Hacking, 2003). Можно согласиться с мнением Дуглас и Хэкинга, связывающих остроту восприятия рисков с моральными критериями человеческих сообществ. Так, К. Лаптон полагает, что «риски, получающие наибольшее внимание в какой-либо культуре, — это те, что связаны с легитимизирующими моральными принципами [этой культуры]». «В сердце этих "рисков" лежат эмоциональные измерения, вызванные посягательством, трансгрессией: злость, волнение, фрустрация, ненависть, ярость, страх» (Lupton, 1999). Схожим образом в работе «Риск и грязь» Я. Хэкинг пишет, что для вхождения какого-либо из рисков в «портфель рисков» данного общества опасность, с ним связанная, должна интерпретироваться как атака на «чистоту этого общества», как угроза его реального или символического загрязнения (Hacking, 2003). Что подразумевают выражения «чистота общества» и «символическое загрязнение общества»? Чистота и загрязнение — две стороны одной медали — культуры, и первая немыслима без второй. Дуглас считает, что правила загрязнения — это практически универсальный механизм для определения коллективной идентичности общества, для его чувства самовосприятия. В различных сообществах есть разные загрязняющие вещества, на которые наложены табу: у мусульман это алкоголь и свинина, у иудеев — свинина и другие «некошерные» продукты. Такие табу придают этим сообществам специфическую коллективную идентичность и отделяют их от других. В то же время правила соблюдения чистоты регулируют сообщества изнутри, по их соблюдению судят о соответствии индивида моральным стандартам этого клана, народа и т. д. Э. Дюркгейм называл моральным порядком общества систему восприятия и классификации реальности, которая регулирует, структурирует и организует отношения в этом сообществе. Соответственно, любое общество имеет символические и моральные границы, т. е. линии, позволяющие включать в него полноправных членов и исключать чужаков, как внешних, т. е. отличных по территориальной принадлежности, так и внутренних — не соответствующих моральным стандартам этого сообщества. Такие линии могут быть выражены через нормативные запреты (табу), культурные аттитюды и практики, отделяющие «нас» от «них». Бинарная оппозиция «мы» и «они» является базовой, она и делает возможной саму концепцию социальной идентичности. Моральные границы — это один из видов символических границ, определяемых как система различений, используемых для категоризации объектов, людей, практик, а также пространства и времени. На макросоциологическом уровне работа по поддержанию моральных границ, по включению и исключению ведется для сохранения внутреннего порядка в сообществе, часто — с помощью принуждения к следованию коллективным нормам. Правила загрязнения и поддержания чистоты — это как раз функциональные механизмы «граничной работы», обеспечивающие сохранность символических границ сообщества. Когда моральные границы проходят период переоценки и ревизии, что часто происходит во время кризисов или революций, такая неопределенность может привести к возникновению паники и требованиям укрепить моральные границы сообщества. Так, например, моральная паника по поводу молодежных беспорядков в Англии, по мнению автора этой концепции С. Коэна (Cohen, 1973), — реакция на меняющийся в 1960-е гг. статус молодежи. Попытки криминализации либерального дискурса о наркотиках, наблюдавшиеся во время российской моральной паники по этому поводу, на мой взгляд, объясняются следующим. Меры, предлагаемые в рамках этого дискурса, направлены на снижение отрицательных последствий наркотизации, таких как смерть от передозировок, сопутствующие заболевания, преступность вокруг наркотиков. Но они не предлагают главного (с точки зрения тех, кто принимает участие в конструировании моральной паники вокруг наркотиков) — защитить моральные границы, являющиеся важнейшим объектом паники. Как раз традиционная мораль в рамках либерального дискурса терпит поражение, а моральные границы, регулирующие легитимное и нелегитимное удовольствие, оказываются пересеченными и переопределенными. Именно такая ситуация кризиса существовала в России середины 1990-х гг. во времена всплеска интереса прессы к наркомании. Социальная функция моральных паник состоит в защите моральных границ сообщества, а способами этой защиты служат различные стратегии амплификации (увеличения) рисков явления, вокруг которого разгорается моральная паника. Можно выделить следующие дискурсивные стратегии (Мейлахс, 2004): 1) спираль сигнификации — способ сигнификации (обозначения) общественных проблем, цель которого — увеличение воспринимаемой угрозы путем отождествления сигнификатора с более острой социальной проблемой (например, называть употребление наркотиков «чумой», «национальной катастрофой»); 2) конвергенция проблем, которая происходит, когда в процессе сигнификации два вида активности связываются между собой с целью увеличения эффекта и размера опасности. Например, наркотерроризм (проблема наркотиков путем сигнификации связывается с проблемой терроризма), наркоинтервенция (наркотики + интервенция); 3) автоматическая проблематизация имеет место, когда с проблемой наркотиков автоматически (само собой разумеющимся образом) связываются другие социальные проблемы, например, преступность и СПИД; 4) социальная работа по категоризации, в результате которой все люди, употребляющие любые наркотики с любой частотой, относятся к одной категории — «наркоманы»; 5) селективная типизация. Так, например, СМИ подают преступления, связанные с употреблением наркотиков, случаи тяжких преступлений (убийства) как типичные, о них пишется больше всего, в то время как доля наркозависимых, совершивших такого рода преступления, крайне мала. Стратегии амплификации рисков часто достигают поставленной цели — сформировать у населения чувство страха и подвигнуть его к одобрению репрессивных мер в отношении «народных дьяволов», т. е. тех, кому приписывается персональная ответственность за сложившуюся ситуацию. Так, в исследовании отношения родителей и школьников к различным аспектам криминальной и медицинской моделей наркомании, нами установлено: чем в более негативном свете видит ситуацию респондент, тем в большей степени он поддерживает расход государственных средств на ужесточение борьбы с потребителями наркотиков. Это справедливо как для группы родителей, так и для группы школьников. Как отмечает Ч. Критчер (2003) в работе «Моральные паники и медиа», современные моральные паники имеют тенденцию концентрироваться вокруг темы детей и детства. Работы Дж. Беста «Дети под угрозой: риторика и беспокойство о детях-жертвах» (1993), Ф. Дженкинса «Моральная паника: изменяющаяся концепция педофила в Америке» (1998), «Педофилы и священники: анатомия современного кризиса» (2006) и других авторов показывают, как тема детства эксплуатируется моральными антрепренерами для создания различных моральных паник: вокруг похищения детей, педофилии, насилия над детьми (child abuse), компьютерных игр и т. п. Искусственное происхождение паник не означает, что этих явлений не существует. Моральная паника свидетельствует лишь о повышенном и неподкрепленном объективными данными восприятии их рисков. Это обстоятельство неслучайно. Для объяснения этого феномена необходимо вновь обратиться к тезису о том, что риски, переживаемые в обществе, особенно остро воспринимаются относительно того, что связано с правилами чистоты и загрязнения, регулирующими его (общества) моральные границы. 'Традиционно в культурах большинства народов мира (в том числе и российской) дети выступают символом чистоты. Наркотики как раз и являются тем загрязняющим веществом, которое разлагает «нравственность наших детей», покушается на их чистоту (а значит, и на чистоту самого сообщества). Вот мнение юриста, профессора Л. И. Романовой (2003): «Страшнее всего, что наркомания и наркотизм разрушили нравственное сознание людей». Я. Хэкинг отмечает, что война с наркотиками презентируется в основном не как борьба с реальными угрозами от наркотиков; ее риторика — это риторика символического загрязнения (Hacking, 2003). Наркотики и наркоманы «загрязняют наших детей, делают из них ничего не соображающих зомби, способных на все для добычи наркотиков — для них уже не существует никаких преград и моральных ограничений, все их действия подчинены одному — поиску наркотиков». При этом к загрязненным детям уже нет жалости, «грязные дети» приобщают к наркотикам «чистых детей». Символически чистое существо — ребенок — исчезает, и на его месте возникает символически и физически нечистое существо — «грязный наркоман». Именно этот символизм может объяснить, почему в общественном сознании, равно как и в доминирующих медицинском и криминальном дискурсах о наркомании, практически не существует разделения потребителей наркотиков на зависимых от них и употребляющих их эпизодически, а есть лишь «наркоманы»: и первые, и вторые уже подверглись ритуальному осквернению наркотиками и лишились своеобразной антинаркотической девственности. Дискурсы о «чистых» детях, которым угрожают наркобароны и наркоманы, и дискурсы о «грязных» наркоманах, способных на все ради дозы и совращающих «чистых детей», сосуществуют как бы в разных плоскостях. Дети воспринимаются исключительно в качестве объекта «наркоугрозы», а «наркоманы» — в качестве ее носителей. То, что «наркоманы» — это тоже очень часто дети, причем вчерашние «чистые» дети, хоть и признается на фактическом уровне в декларациях о том, что «наркомания — это болезнь молодых», но отрицается на уровне символическом: дети-наркоманы оказываются лишенными чистоты, т. е., по сути, и самого статуса детства. Именно так «исчезают» дети, рискнувшие попробовать наркотики. Они подвергаются дискурсивному ритуалу «символического ограбления», в ходе которого у них отбирается один из главных символов детства — чистота, после чего все они автоматически превращаются в монолитную категорию постоянных носителей угрозы — «наркоманов». С ними же, теми, кто атакует детство, церемониться не следует. Схожая ситуация наблюдалась и с попытками введения уроков сексуального просвещения в России. В работе «Публичное пространство в дискурсе российского неоморализма» (Мейлахс, 2004) прослеживается, как тема сексуального образования презентовалась на страницах российских изданий. Проекты, касающиеся сексуального просвещения школьников в России, первоначально были восприняты благосклонно. Опубликовано несколько статей, доказывающих необходимость такого воспитания. Однако через год-полтора ситуация начала меняться. Стало появляться все больше статей клеймсмейке-ров (главным образом священников и педагогов), утверждавших, что такие программы «сеют разврат и учат школьников различным извращениям». По мнению И. Кона, против сексуального просвещения был объявлен «крестовый поход». Моральная паника вокруг наркотиков, дебаты по поводу проектов сексуального просвещения и другие «битвы за моральные границы», затрагивающие такие темы, как порнография и гомосексуальность, происходили в определенном социальном контексте — на подъеме волны неоморализма. Это означало постепенный откат от перестроечных либеральных ценностей и одновременно возврат к старым советским принципам, соединение их с «новой русской идеей православия» и возвращение к «русским корням». Все это — общественный фон, характеризующий постельцинскую Россию. Таким образом, можно подойти к объяснению парадоксального (с рациональной точки зрения) факта — столь сильного воздействия наркотиков на общественное сознание россиян. Для подавляющего большинства из нас наркотики являются «загрязняющим» веществом, с помощью которого ведется атака на чистоту общества, и в первую очередь на один из символов этой чистоты — детей. Исходя из этой позиции, совсем неудивительно, что проблемы, связанные с употреблением алкоголя, не вызывают такого всплеска эмоций, как феномен употребления наркотиков. И это — несмотря на то, что отрицательные последствия и опасности (но не риски!) для социума его злоупотребления многократно превышают связанные с наркотизмом. Алкоголь традиционно присутствует в российской культуре и поэтому не является «загрязняющим» веществом, скорее, наоборот, его употребление служит одним из маркеров российской национальной идентичности. Именно поэтому «непьющие» в нашем обществе часто сталкиваются с подозрительностью, а иногда и отторжением в различных социальных средах. Их отказ употреблять алкоголь выглядит как нарушение культурных кодов, характеризующих российскую национальную идентичность. 5. Моральные границы: фиксация на старом или восприятие нового? Из рассуждений о том, как наркотики воздействуют на общественное сознание, можно сделать неверный вывод, что само понятие моральных границ обладает отрицательной коннотацией и что защита моральных границ непременно ассоциируется с чем-то репрессивным и авторитарным, с борьбой автономного индивида против подавляющего его социума. Это совершенно не так. Любое сообщество характеризуется определенными моральными границами и не может существовать без них. Так, для либерального общества фашизм и расовая нетерпимость — такие же «загрязняющие» феномены, как наркотики или сексуальные меньшинства для тоталитарных обществ. Взрыв коллективных чувств либералов по поводу проявлений антисемитизма или атак на иностранных студентов также обусловлен не рациональными, а моральными соображениями. Общество немыслимо без морали (о чем не уставал повторять Э. Дюркгейм) и, безусловно, должно отстаивать определенные моральные принципы, характеризующие его моральный порядок, защищать себя от индивидов, его разрушающих (террористов, убийц, насильников). Когда общество борется с потребителями наркотиков, это происходит в первую очередь не из-за вреда здоровью и угрозе безопасности для других членов этого общества, а из-за атаки на его «чистоту» и моральные границы. В этом контексте важно определить механизмы воздействия наркотиков на общественное сознание и показать, что рациональные соображения «вреда» и «риска» здоровью используются сторонниками репрессивного подхода к наркотикам в качестве дискурсивного ресурса, скрывающего их подлинные мотивы: защиту «чистоты» общества. Никакого «имморализма» из этого не следует. Самая либеральная политика в отношении наркотиков будет основываться на моральных воззрениях. Речь идет о том, какими должны быть эти моральные основания. «Неоморалисты» стараются защитить моральные границы «старого» советского общества тоталитарного образца, отличавшегося нетерпимостью к любым проявлениям «инаковости». Во-первых, их представления о морали и нравственности не соответствуют нормативным принципам открытого общества, где правам индивида отводится не меньшее место, чем его обязанностям, а моральные принципы поведения являются предметом его личного выбора, пока они не нарушают права других людей. При этом хочется подчеркнуть понятие «нарушают», а не «представляют риск», поскольку категория «потенциальный преступник» (одна из наиболее часто встречающихся в определении потребителей наркотиков) — это юридический нонсенс. В определенных обстоятельствах большинство из нас могут совершить преступление, так что почти все в каком-то смысле могут быть охарактеризованы как «потенциальные преступники». Преступник становится преступником, только когда он преступил закон, а не в состоянии это сделать. Из этого не следует и принятие принципа безграничного индивидуализма, когда права индивида являются единственным моральным принципом, организующим сообщество, а интересы сообщества в целом игнорируются. Э. Дюркгейм (2002) писал по этому поводу: «Если, например, в известный момент общество в целом теряет из виду священные права индивида, то нельзя ли его поставить на место, напомнив ему, насколько уважение этих прав тесно связано со структурой великих европейских обществ, с нашей ментальностью в целом, так что отрицать эти права под предлогом общественных интересов — значит отрицать наиболее существенные общественные интересы?» Во-вторых, репрессивные меры в отношении потребителей наркотиков нарушают принцип равенства, когда одни члены общества вольны в неограниченных количествах потреблять легальные психоактивные вещества (несмотря на весь спектр рисков, с ними связанных), а другие не могут этого сделать л ишь в силу традиционных представлений о типах «загрязняющих» веществ. Совмещая это наблюдение с первым, можно сказать, что потребители спиртного и никотина не несут никакой ответственности за риск и «потенцию совершить преступление», а на потребителей наркотиков (в том числе и менее опасных для здоровья, чем алкоголь) такая ответственность возлагается. В-третьих, наркозависимые — это больные люди (по крайней мере, считаются таковыми и в силовых, и в медицинских институциях социального контроля), а одним из атрибутов «роли больного» является снятие ответственности (юридической) за свою болезнь. В-четвертых, моральные границы, постулирующие «нулевую толерантность» в отношении употребления каких-либо наркотиков в любой форме, не соответствуют реалиям современного российского общества, когда около 50% процентов молодежи, пробовавшей наркотики, и каждый пятый, употребляющий их с той или иной степенью регулярности, оказываются за рамками закона. Иными словами, принцип «нулевой толерантности» криминализирует огромное количество российских граждан исключительно за то, что те потребляют «загрязняющие» психоактивные вещества. Итак, моральные границы, отстаиваемые сторонниками репрессивного подхода к наркотикам, оказываются «мертвыми» и отжившими, они не отражают реальных жизненных практик современных поколений российской молодежи. Употребление различных наркотиков молодежью, причем в достаточно значимых масштабах, — это данность современных обществ европейского типа. И силы общественных институтов должны быть направлены не на «искоренение» или «радикальное снижение» наркотизации (что цивилизованными методами сделать невозможно), а на уменьшение отрицательных последствий, с ней связанных (что не отменяет необходимости первичной профилактики наркомании). Таким образом, необходима коррекция моральных границ нашего общества в направлении их приспособления к существующим российским реалиям, а не в ригидной фиксации на старых и недостижимых идеалах. Как писал Э. Дюркгейм, противоречие между старыми, отжившими нормами и сложившимися реальными общественными условиями приводит к состоянию социальной аномии, чреватой суицидами, маргинализацией различных общественных групп и росту преступности. Старые нормы перестают эффективно выполнять свою регулирующую функцию, новые еще не сложились, и индивид оказывается в «подвешенном» состоянии отсутствия ориентиров, направляющих его поведение. Попытки свести наркотизм на нет и возродить реально действующие (т. е. регулирующие поведение подавляющего большинства членов сообщества) нормы «нулевой толерантности» без параллельного отката к тоталитарному обществу не представляются возможными. Стало быть, необходимо общественное переосмысление моральных границ, а не бескомпромиссное отстаивание старых. К тому же моральные паники наподобие той, что наблюдалась в конце 1990-х гг., — не лучшее средство сохранения моральных границ вообще, в чем бы они ни заключались (Мейлахс, 2003). Они уводят общество от рациональной рефлексии по поводу той или иной проблемы и сводят всю сложность социального бытия в эмоциональную плоскость ненависти и негодования. Однако известно, что общество одобряет репрессивные меры в отношении наркозависимых и поддерживает прогибиционистскую политику государства. Не является ли тогда либерализация антинаркотической политики антидемократической? В каком-то смысле да. В этой связи можно лишь процитировать Э. Дюркгейма, ученого, которого никак нельзя обвинить в безграничном либерализме и пренебрежении правами коллектива: «Мы, стало быть, совсем не обязаны в области морали покорно подчиняться общественному мнению. В некоторых случаях мы можем считать себя даже как бы призванными восставать против него. В самом деле, может случиться так, что, основываясь на каком-то из мотивов, которые только что были указаны, мы сочтем своим долгом бороться против моральных идей, которые, с нашей точки зрения, устарели, являются уже не более чем пережитками». Кроме того, в нашем обществе постепенно происходит трансформация отношения к потреблению наркотиков. В проведенном исследовании отношения родителей и школьников к криминальной и медицинской моделям наркомании найдены заметные различия между этими категориями респондентов. Несмотря на то что криминальная модель наркополитики находит большую поддержку как среди родителей, так и среди школьников, хотя в последней группе она пользуется заметно меньшим влиянием, чем в первой. Отношение школьников к потребителям наркотиков — в целом значительно более гуманное, чем у поколения их родителей. Представляется, что причины этого лежат в различных условиях социализации поколений. Мировоззрение родителей формировалось во времена советского режима, известного своим репрессивным отношением к различным уязвимым группам, в том числе и к наркозависимым, доминированием коллективистской идеологии и презрением к индивидуалистским ценностям человеческой жизни, а также ригидным морализмом. Поэтому они оказались более восприимчивы к утверждениям-требованиям клеймсмейкеров, строящих свои дискурсивные и недискурсивные стратегии на основе репертуара понятий криминального дискурса, чем учащиеся. Социализация молодого поколения проходила в новых социальных условиях постперестроечной России, когда ценности соблюдения прав человека, гуманного отношения к уязвимым группам, индивидуализма и плюрализма в области морали заняли устойчивое место в риторических стратегиях множества клеймсмейкеров, в том числе и агентов различных государственных институций. Кроме того, сами жизненные практики современной российской молодежи сегодня гораздо более плюралистичны и диверсифицированы, чем у поколения ее родителей. Монолитная культура «советского человека» и «советской молодежи» оказалась раздробленной на многочисленные пестрые фрагменты молодежных субкультур, в том числе и таких, где употребление тех или иных видов наркотиков вполне приемлемо. Такое «опривычивание» наркотизации может вести к более толерантному отношению к самим наркотизирующимся, и они перестанут представляться загадочными и непостижимыми «чужими», олицетворяющими моральное разложение общества, а будут восприниматься либо как «нормальные» развлекающиеся (если потребление ими наркотиков не выглядит как проблемное), либо как нуждающиеся в помощи «свои». Определенный сдвиг в моральных границах нашего общества налицо, и перед ним назрела необходимость выбора: либо отстаивать устаревшие и недостижимые нормы путем репрессивной антинаркотической политики, либо адаптироваться к переменам и приспосабливать эту политику к реально сложившейся ситуации с наркотиками.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||