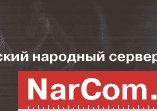|
| |
Почему мы себя
убиваем,
или
Почему мы себя не убиваем
Выход не здесь!
Самоубийство всегда ужасает — особенно
самоубийство юноши, подростка... Зачем он
это сделал? — гадаем мы... Но какова бы ни
была глубинная причина и каков бы ни был
ближайший повод, человек не убьет себя, если
у него отсутствует представление о
самоубийстве как о допустимом, а может быть,
и достойном выходе из мучительной ситуации.
Модель суицидального поведения мы начинаем
усваивать еще в раннем детстве, находя
примеры для подражания и в повседневной
жизни, и в искусстве (известный
петербургский девиантолог Я. Гилинский
называет такие образцы культурологической
подсказкой). Суицидальные традиции могут
уходить в глубокую древность, и две страны,
почти не отличающиеся по внешним признакам
(уровень жизни, образование и т. п.), могут
непостижимым для бесхитростного
материалиста образом разительно
отличаться по уровню самоубийств из-за того,
что лет триста назад одна из них была
страной смиренных крестьян и рыболовов, а
другая имела гордое, воинственное
дворянство, почитавшее самоубийство в
определенных ситуациях самой настоящей
доблестью. Самураев, например, с детства
учили убивать себя даже без оружия и со
связанными руками — прокусывая себе язык,
чтобы истечь кровью; индийскую женщину тоже
с малолетства готовили к сати —
добровольному сожжению в случае смерти
мужа, — в противном случае и ее, и ее семью
ждал страшный позор.
Примеры для подражания могут лежать и
совсем близко, — заразительность
самоубийств отмечалась не однажды, — и в
монастырях, и во вполне светских
учреждениях закрытого типа. Разговоры в
семье о каком-то родственнике, покончившем
с собой, тоже не проходят бесследно.
Дюркгейм описывает некоторое семейство,
прямо-таки преследуемое роком: все девушки
из этой семьи, достигнув совершеннолетия,
пытались покончить с собой, — но если им это
не удавалось, попыток уже не повторяли. В
этом же самом семействе воспитывалась
приемная дочь, ни с кем там не находившаяся
даже в отдаленном родстве, однако этого не
знавшая. И вот с приближением
совершеннолетия ее начали преследовать
неотступные мысли о самоуничтожении, пока
она, не выдержав, не рассказала о них
приемным родителям. Те, посовещавшись,
почли за лучшее признаться, что она им вовсе
не дочь, — и зловещие мысли немедленно
оставили ее навсегда.
Если в какой-то части общества бытует
образ “романтического самоубийцы”, то
можно быть уверенным, что у него найдутся
подражатели. Есенин, Хемингуэй, Ван Гог,
Маяковский, Цветаева наверняка поселили у
многих представление о том, что покончить с
собой способны лишь люди выдающиеся, — этим
романтикам будет полезно узнать о
поразительно высоком уровне самоубийств
среди унтер-офицеров, а также среди
оленеводов малых народностей Севера.
Романтизация самоубийцы, как сказал мне
один опытный суицидолог, — это
романтизация загнанного зверька, который
нуждается прежде всего в сострадании.
Трудно проследить, с какими
разновидностями отношения к суициду
человек сталкивается в повседневном
общении — легче пронаблюдать за
телевидением, кино, книгами или газетами.
Считается, что “Вертер” вызвал волну
подражаний, “Бедная Лиза” тоже как будто
не осталась без последствий, — однако я,
конечно, не рискнул бы давать указания Гёте
или Карамзину. Вот телесообщения о
самоубийствах, даваемые вперемешку с
сообщениями о рок-концертах, — это та
бестактность, которую нетрудно исправить, а
серьезное искусство вряд ли поддается
целенаправленному воздействию, пытаться
управлять им — значит уничтожить его,
оставив тем самым духовную жизнь
человечества без точнейшего индикатора.
Причем уничтожить напрасно, поскольку и без
него влияние третьесортной худпродукции
все равно добирается даже туда, где не
пользуется влиянием ни “Анна Каренина”, ни
“Мадам Бовари”: в предсмертных записках
самоубийц более всего заметно влияние
расхожих фольклорных образов и эстрадных
песен.
Специалисты, беседуя со спасенным
суицидентом, иногда обнаруживают, что на
окончательное решение его навела
телепередача, фильм, книга. Правда, в
тишайшие годы застоя по телевизору не
передавали никакой “чернухи”, — если что и
перерезали, так это ленточки у входа на
выставки всевозможных достижений, — и все
же число самоубийств удвоилось. Так что
названная причина далеко не главная. Однако
для человека, балансирующего над пропастью,
и такой толчок может оказаться последним.
Как этому воспрепятствовать, я не знаю, —
цензура была бы лекарством хуже болезни.
При наличии достаточно сильной глубинной
причины поводом для суицида может стать что
угодно — уничтожить все поводы и в самом
деле означало бы уничтожить жизнь. Говорят,
был случай, когда отчаявшийся человек
прочел в метро: “Выхода нет” — и... Не
писать же из-за этого на всех дверях: “Выход
есть!” Но некие азы суицидологической “техники
безопасности” нам всем следовало бы пройти,
чтобы мы до какой-то степени могли
предугадывать, что слово наше может
отозваться и таким образом. Слово,
фотография или кадр. Что самоубийство рок-звезды
способно вызвать волну подражаний, — это
нормальный человек еще мог бы предсказать.
Но что и телесообщение об этих подражаниях
способно вызвать новую волну, без
специальных знаний предугадать трудно.
В принципе, провоцирующим фактором
способен сделаться и сам суицидальный
ликбез, но его отсутствие, вероятно,
приносит больше зла. Понимание механизмов
самоубийства, как минимум, деромантизирует
его, а это уже немало. А как еще можно
ослабить эстетическую привлекательность
или этическую приемлемость суицида —
вопрос нелегкий. В древних Афинах на
самоубийство требовалось разрешение
властей, — нарушителя оставляли без
погребения, страдали наследники. В Риме
солдат, покушавшийся на самоубийство,
подвергался смертной казни, — но если имел
уважительную причину, только изгонялся из
армии. Самым позорным считалось
самоубийство с целью избежать наказания:
государственная власть всегда желала быть
сильнее смерти.
Христианство запрещало самоубийство как
результат дьявольской злобы, труп хоронили
“без церковного пенья, без ладана”,
завещание самоубийцы лишалось законной
силы. Церковью оправдывалось лишь
самоубийство Самсона и самоубийство
девственницы, спасавшей свое целомудрие. Да
каждое из них и не было самоубийством
отчаяния, бегством от жизни — это были
самоубийства-деяния, стремящиеся достичь
вполне “земной” цели, хотя бы и ценой жизни:
строго говоря, это были самопожертвования.
Великая французская революция дала
юридическое право на самоубийство, а к
началу ХХ века самоубийство продолжало
считаться преступлением только в Англии. В
очерковой книге Джека Лондона “Люди бездны”
есть удручающие описания процессов над
самоубийцами-неудачниками (хотя что здесь
считать удачей?), иные судьи прямо распекали
их за неумелость: “Топиться так топиться,
зачем же причинять людям хлопоты!”
В допетровской Руси к самоубийцам
причисляли и опившихся вином, и убитых во
время разбоя. Петр Великий распорядился: “Ежели
кто себя убьет, то мертвое его тело,
привязав к лошади, волоча по улицам, за ноги
повесить, дабы, смотря на то, другие такого
беззакония над собою чинить не
отваживались”. Только советское
законодательство, среди многочисленных
иных свобод, обеспечило и свободу
самоубийства, и в данном, едва ли не
единственном, случае мы эту свободу
действительно получили — ни самоубийцам,
ни их родственникам уже не приходилось
опасаться закона. Но общественное мнение и
уголовный кодекс — далеко не одно и то же,
управлять мнениями, желаниями чрезвычайно
трудно. Точнее, почти невозможно.
Есть старинная история: чтобы пресечь
эпидемию девичьих самоубийств, магистрат
распорядился выставлять нагие тела
нарушительниц порядка на всеобщее
обозрение, — и эпидемия сразу же угасла.
Подозреваю, что это легенда. Но в начале
века кое-кто предлагал вернуться к подобным
испытанным методам, чтобы сделать
самоубийство позорным актом. Не исключено,
что это принесло бы кое-какие плоды, но сами
эти методы настолько жестоки и
отвратительны, что жизнь среди людей,
одобрительно на них взирающих, все равно
была бы мерзостной, если бы даже мы и
перестали накладывать на себя руки. Лично
меня коробят даже такие сравнительно
слабые определения самоубийц, как “психи”
и “слабаки”. Надеюсь, в такого рода отзывах
жестокости все-таки меньше, чем
эмоциональной тупости, но даже и тупости
может оказаться достаточно, чтобы лишить
будущего самоубийцу последней надежды. С
людьми отзывчивыми он бы еще мог поделиться
своими мыслями, но с этими румяными
здоровяками... Три четверти подростков-суицидентов
так или иначе предупреждали родителей, но
понята была лишь третья часть. Мы любим
пробуждать мужество суровостью. “Не
обращать внимания на капризы” — это у нас
верх педагогической мудрости. Есть даже
специальный миф, что “настоящий”
самоубийца никогда об этом не говорит, —
если бы!.. Еще как говорит — намекает, просит...
Впрочем, жизнь среди сочувствующих людей
действительно делает нас более ранимыми: “любимые”
дети чаще фантазируют о самоубийстве — но
приводят свои фантазии в исполнение реже.
По результатам одного исследования —
советских времен, кто сейчас станет такое
финансировать! — в котором был опрошен едва
ли не каждый двадцатый ленинградец, к
суициду очень немногие относятся с
активным неодобрением (0,8% среди служащих
без высшего образования и 1% среди учащихся).
Индифферентно: рабочие—19,4%, служащие без
высшего образования — 13%, с высшим
образованием — 7,4%, учащиеся — 14%.
Сочувствуют: рабочие — 5б,б%, служащие без
высшего образования — 78%, с высшим
образованием — 82%, учащиеся — 72%.
Складывается впечатление, что люди
образованные, вопреки давно и усердно
распространяемому мнению, более склонны к
сопереживанию. Это обнадеживает. Обратная
картина была бы более пугающей, влекла бы к
какой-то упростительской утопии. А страсть
к упростительству — сокрытый двигатель
фашизма того или иного цвета.
Мне кажется, правильное отношение к
самоубийце — это, безусловно, сострадание.
Сострадание без взгляда свысока (“завтра и
я вполне могу оказаться на его месте”), но и
без романтизации, без пиетета, — как к
человеку, попавшему в ситуацию чрезвычайно
мучительную, но нашедшему из нее не самый
лучший выход. Выход, из которого выхода уже
нет и к которому, по мнению многих
специалистов, он не так уж и стремился.
Одному виднейшему суицидологу принадлежат
слова: настоящий самоубийца — это тот, кто
режет себе горло и одновременно кричит о
помощи. Многие исследования подтверждают,
что самоубийца желает вовсе не умереть, а
лишь каким угодно способом прекратить свои
мучения, "что-то сделать с собой",
причем далеко не всегда ощущает свой
поступок бесповоротным, не до конца
осознает, что смерть — это “навсегда”. С
детьми это бывает особенно часто.
Отмечаются типы самоубийств, преследующих (иногда
и неосознанно) вполне посюсторонние цели: “жажда
передышки”, “самонаказание”, “крик о
помощи”, “протест”...
Но если мы готовы сострадать реальному
самоубийце, почему же самоубийства в
искусстве так часто вызывают в нас
растроганность, смешанную с восторгом? “Лучше
в Волге мне быть утопимому, чем на свете мне
жить нелюбимому” — может быть, нужно
пореже исполнять подобные песни? Осмеивать
их, всячески депоэтизировать? Я думаю,
трогает и восхищает нас не смерть, а сила
страсти — готовность смерти лишь
подчеркивает эту силу. В одном своем
рассказе Фазиль Искандер напрямую
оправдывает самоубийство из-за потери
любимой: чего стоили бы все слова о том, что
любимая дороже жизни, если бы изредка они не
подтверждались делом? Да и вообще — весьма
сомнительно, что человек сделался
счастливее, привыкнув ценить свою жизнь
превыше всего на свете — и оттого
погрузившись в беспрерывный страх потерять
ее: ведь возместить эту потерю стало нечем.
Катон, убивающий себя, чтобы не пережить
падение республики, Лукреция, пронзающая
себя кинжалом, чтобы не пережить утраты
чести, — восхищает нас здесь отнюдь не
капитуляция, а, напротив,
целеустремленность, способность поставить
свою святыню выше жизни. Сомневаюсь, что
можно найти хотя бы один пример, когда бы
нас восхищала слабость.
Суицидологическое просвещение в России
так неразвито, что любое сочинение на эту
тему представляет общественный интерес. В 93
году в Перми вышла любопытная книга Л.
Трегубова и Ю. Вагина "Эстетика
самоубийства” — типичное дитя нашей
свободы: серьезная тема и — превульгарная
обложка с лиловым не то утопленником, не то
удавленником в некоем утрированном гробу (контраст
между символическим значением и
материальным зрелищем самоубийства?).
Солидная эрудиция и — элементарные проколы,
которые легко исправил бы любой грамотный
редактор (гармоничность древних греков
иллюстрирует Катон) либо профессионал-социолог
(“Количество самоубийств среди городских
жителей значительно выше, чем в сельской
местности" — эти данные просто устарели).
Все это тем более досадно, что книг,
обсуждающих связь самоубийства с самыми
высокими сферами культуры, в России до сих
пор почти нет. Притом даже не знаешь, что
лучше — чтобы читатель вообще об этом не
задумывался или усваивал столь расхожие и
поверхностные представления, скажем, об
эпикурействе: эпикурейцы ставили во главу
своего учения гедонистический принцип;
человек у эпикурейцев, вместо того чтобы
грустно размышлять о своей судьбе, должен
относиться к ней весело и легкомысленно; он
сознает свой эгоизм и логически вытекающие
из него последствия, но принимает их; он
решает одну задачу — удовлетворить свои
потребности, а если не получится —
разделаться со своим бессмысленным
существованием. Пишущий эти строки, робко
подумывая о некоей хрестоматии, куда
входили бы размышления разных мудрецов о
смысле жизни, о ее подлинных и мнимых
ценностях (если только такое разделение
вообще возможно), Эпикура мысленно включал
туда одним из первых. И скажите на милость,
укладываются ли в образ легкомысленного
эгоиста такие, например, его суждения:
“Лучше с разумом быть несчастным, чем без
разума счастливым”.
“Конечная цель жизни — удовольствие, но
не удовольствия распутников, а свобода от
телесных страданий и душевных тревог”.
“Справедливый в высшей степени свободен
от тревоги, а несправедливый полон очень
сильной тревоги”.
“Все желания, которые, если они не
удовлетворяются, не ведут к страданию, не
необходимы”. (Стремление не насладиться, а
избежать страданий — это не тривиальный
гедонизм.)
“Богатство, требуемое природой,
ограничено и легко добывается; а богатство,
требуемое пустыми мнениями, простирается
до бесконечности”. (Перекличка с
Дюркгеймом: утрата границ для человеческих
аппетитов — мощный суицидальный фактор, и
наша реклама разрушает эти границы
неустанно, как морской прибой.)
“Приучай себя к мысли, что смерть не имеет
к нам никакого отношения. Ведь все хорошее и
все дурное заключается в ощущении, а смерть
есть лишение ощущений”, "пне жизни нет
ничего страшного”.
“Люди толпы то избегают смерти как
величайшего из зол, то жаждут ее как
отдохновения от зол жизни. А мудрен не
уклоняется от жизни, но и не боится нежизни”.
“Совсем ничтожен тот, кто имеет много
основательных причин для ухода из жизни”.
“Мудрен, приспособившись к нужде, умеет
скорее давать, чем брать”.
Эгоистичность этих наставлений
заключается разве лишь в том, что критерием
правильного поведения человека служит его
же собственное самочувствие. Принцип,
потенциально опасный в силу своего
мастурбационного характера, —
нацеленности не на достижение реального
результата вовне личности, а на состояние
ее души, которое, как показал будущий опыт,
может быть достигнуто и медикаментозным
путем, (наркотики). Однако с обыденной точки
зрения этику Эпикура можно назвать
эгоистической только в сравнении с
христианской этикой самоотречения—той ее
ветвью, которая требует прежде всего
служения ближнему (“вера без дел мертва
есть”.).
Однако в “Эстетике самоубийства”
отношение христианства к суициду
трактуется вообще в духе журнала "Безбожник":
кажется, авторы серьезно полагают, что
создатели христианского учения сами в него
не верили, а развивали те пли иные его
аспекты исключительно в корыстных видах.
Теоретики христианства, и в частности тот
же св. Августин, пишут Л. Трегубов и Ю. Вагин,
провозглашали самоубийство грехом, чтобы
"не остаться без паствы и богатых
прихожан... (В этом же духе высказывается Г.
Чхартишвили в недавней книге “Писатель и
самоубийство”, изданной в Москве.) Я не
стану спорить — юный спартанец, убивающий
себя, чтобы не терпеть унизительного
рабства, поступает в гармонии со своими
принципами. Но ведь и христианин.
отказывающийся убить себя, невзирая ни на
какие пытки и унижения, тоже поступает в
полной гармонии со своими принципами,
демонстрируя ничуть не меньшую силу духа.
Основной этический импульс христианства
— импульс поистине революционный, — на мой
взгляд, примерно таков: поменьше следи,
какое зло творят другие, и побольше
старайся не творить его сам; вместо того
чтобы бороться со злом, делай посильное
добро — это возможно практически при любых
обстоятельствах. Поэтому твое намерение
покончить с собой из-за каких-то страданий
или потерь показывает, что ты ставишь эти
внешние обстоятельства выше своей основной
задачи, — для верующего христианина это
явная измена. Другое дело, что даже измену
можно простить, но — гордый возврат билета
творцу— в последнюю очередь.
Альтруистическое самоубийство —
безнадежно больного или беспомощного
старика, не желающих заедать чужой век, —
вот такое самоубийство, пожалуй, могло бы
претендовать даже и на известное одобрение.
Но тут уж вступает в силу не этический, а
мистический аспект христианства, к
которому автор этих строк не находит в себе
сил отнестись серьезно, но который для
верующих, однако, чрезвычайно важен: нужно
смиренно принимать испытания, посылаемые
тебе всевышним.
Однако, безнадежно погрязнув в безверии, я
ограничусь этическим аспектом. Этот
революционный поворот от культа чести к
культу совести (честь всегда велит нам
защищать что-то свое, а совесть — чужое)
тоже не мог не породить свое
самообслуживающее течение (пусть погибнет
мир, но торжествует моя безгрешность). — не
говоря уже о прямом ханжестве (требовать
безупречности от других, но не от себя,) и
бесчисленных попраниях собственных
принципов, допущенных и допускаемых
исторической церковью. И все-таки
христианская традиция породила такую
мощнейшую череду примеров терпеливого
служения, которая способна воодушевить
самого закоренелого безбожника ничуть не
менее, чем примеры гордого отказа от жизни,
если она посмела обмануть. Мать и отец
принимают яд на могиле умершей от рака юной
дочери — что ж, не лишено мрачной красоты.
Но родительская пара, в такой же беде
создающая но всему миру сеть
онкологических больниц, — разве это меньше
впечатляет?
А пожалуй, что и меньше...
Многим, и не без основания, кажется, что
терпение очень уж часто является
результатом слабости — мало кто верит в
гордое терпение.
Не зря в народных легендах святым очень
часто приписывается какое-то бурное
прошлое: стал монахом, отшельником — но был-то
разбойником! Значит, может! Значит,
отказался от мирской борьбы действительно
по доброй воле! Я думаю, если читателю и
зрителю, особенно молодому, будут почаще
попадаться яркие примеры сильных людей,
сумевших переплавить свою боль в какое-то
подвижничество, — вольно или невольно он
будет усваивать позитивную альтернативу
романтической суицидальной модели —
отказа от обманувшей жизни.
Переплавить боль в созидательное деяние
— в этой формуле тоже таится огромный
эстетический потенциал.
|