 |
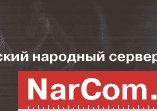 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
«Если поведать широкой публике о действительном положении дел в физике без прикрас, да еще убедить ее всерьез, что Бертран Рассел прав и что первокирпичики мироздания превратились в поток событий, последствия могут быть самыми ужасающими...» Сомневается ли человек при помощи мозга? (продолжение продолжения)А. Перцев 7. Неизгладимая печать образования В большинстве сегодняшних объявлений о вакансиях непременно указывается — «в/о». Это значит: требуется высшее образование. Можно было бы предположить, что работодатель искренне верит: знания, полученные в университете, наверняка обеспечат его будущему работнику успехи в труде и счастье в личной жизни. И такое предположение наверняка окажется ошибочным. Ведь в большинстве объявлений вовсе не указывается, какое именно требуется «в/о». Просто «в/о» — и все! Не важно — какое! Едва ли современный работодатель настолько наивен, чтобы верить в пользу конкретных профессиональных знаний, вынесенных из университета. Да и в прошлые времена никто таким простодушием не отличался. Почти полвека назад Аркадий Райкин под дружный смех зала повествовал об абитуриенте, которому при поступлении в институт велят немедленно забыть все, чему его учили в школе, а после, по приходе на завод, требуют немедленно забыть все, чему учили в институте. Сегодня, услышав подобное требование, человек уже не смеется — он серьезно кивает головой, записывая рекомендацию менеджера в книжечку-органайзер. Так что примем за рабочее определение то, которое дал еще в доиндустриальные времена английский мудрец и политик Джордж Галифакс (1633-1695): «Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему нас учили» [1]. Знания сегодня устаревают стремительно. Поколение нынешних дедов живо помнит те времена, когда не было телевизоров. Поколение отцов родилось еще в бескомпьютерную эпоху. Внуки, снисходительно поглядывая на живых предков, резво «чатятся» в ИНТЕРНЕТе, не ведая того, что в глазах правнуков они будут выглядеть столь же отсталыми, пещерными существами. Даже повседневная, бытовая жизнь заставляет переучиваться ежедневно. Реклама потому и кажется такой нудной, что представляет собой непосредственное продолжение школы. «Dove не содержит мыла. Dove — не мыло! Не мыло, тебе говорю!» Дебелые дамы-домохозяйки, всего десять лет назад всерьез полагавшие, что стиральная машина — это такой тазик с вентилятором, неуверенно и благоговейно рассуждают о повадках новейших стиральных автоматов. Едва ли они считают, подобно Ясперсу, что техническое развитие — это «болезнь», даже если взять это слово в кавычки. Да, то и дело приходится переучиваться. Да, есть в этом некоторые неудобства. Да, иной раз выйдешь из терпения. Но если стиральный автомат — это болезнь, а корыто — здоровье, пусть я буду лучше больной, чем здоровой. Сегодняшний таксист может проехать за смену 600 километров. Его деревенский прадед проезжал такое расстояние за год, вояжируя главным образом в поле да на ярмарку. Таксист испытывает великие стрессы и непрерывно ругается за рулем: «Трогайся, ездун, зеленее уже не будет!» Но он вовсе не ощущает себя больным и отнюдь не жаждет обрести полную устойчивость психики на телеге. Эта сумасшедшая жизнь ему нравится, будь она неладна! Ценность технических познаний старших стремительно девальвируется. Деды и отцы вынуждены брать в учителя внуков. То же самое относится к социальному опыту. На глазах утрачивается филигранное искусство стоять в трех очередях одновременно. Бабушке нечему научить внучку. Генеральный курс не просто колеблется — он вибрирует. Парламенты, правительства, муниципалитеты, домоуправления ежедневно вносят изменения в правила игры. Автоинспекция то и дело развлекает себя сменой дорожных знаков и разметки. Издается творческий журнал «Главбух», бедствия от которого для сенильных бухгалтерий неисчислимы. В эти стремительные времена предприниматель хочет иметь работника с высшим образованием именно потому, что тот быстрее всех других адаптируется к новому и способен моментально забывать старое, не теряя при этом психического равновесия, доброжелательности и общей бодрости духа. Так что высшее образование студент получает отнюдь не на неспешных лекциях и семинарах. Он получает высшее образование во время сессий, когда изучает обширный учебный предмет за пять дней, а потом выбрасывает его из головы, принимаясь за новый — и так пять раз, не считая десятка мелких зачетов. Именно в это время его способность быстро переключаться, разом забывать ненужное, моментально мобилизовать все свои интеллектуальные и волевые ресурсы и — самое главное! — стремительно нравиться начальствующему субъекту — преподавателю доводятся до степени, во много раз превосходящей достаточную для выживания в самые бурные индустриальные времена. Вообще говоря, в эти времена идеальным работником следовало бы считать универсальный автомат, который можно перепрограммировать на новый вид деятельности за считанные минуты. Чтобы человек приблизился к такому идеалу, от него требуется два умения: умение моментально воспринимать новое и умение моментально забывать. Любая техника создается вовсе не для одной только пользы. Она всегда воплощает мечту человека о самом себе. Компьютер — это воплощение сегодняшней мечты о стремительном обучении и стремительном забывании. Вот если бы я мог так же быстро «загружаться» новыми программами и так же быстро стирать их из своей памяти! Или, быть может, сохранять где-нибудь в памяти на всякий случай — но так, чтобы они совершенно не мешали работе новых программ! Может быть, именно эти два умения — стремительно обучаться и стремительно избавляться от устаревших знаний — и составляют сущность образования? Нет! Все далеко не так просто. Нужно в чем-то отразиться, чтобы увидеть себя. Зримо воплотив в компьютере свою мечту о стремительном обучении и стремительном забывании, современный человек увидел в этом чуде техники собственное отражение и в очередной раз задумался о себе. Нечто подобное происходит с каждым новым техническим достижением. Когда-то, на заре индустриализации, человек воплотил свою мечту о сверх-силе, значительно превосходящей силу его мышц, в железной машине. И, увидев ее столь масштабно воплощенной в материи, сразу же задумался: «Не механизм ли я?» Тут же развернулась пылкая дискуссия. Одна сторона стала кричать: «Механизм, механизм! И это — прекрасно, потому что все стало яснее ясного!» Другая сторона ничуть не менее бурно запричитала: «Механизм! Механизм! И это — ужасно!» Сегодня, по прошествии веков, эта дискуссия кажется странной и несколько надуманной — как и названия глубокомысленных трактатов тех лет — типа «Человек-машина». Сегодня все как-то уже поняли, что экскаватор — это одно, а человек — несколько другое. Изобретение компьютера навело на аналогичные размышления. Не компьютер ли человек? Тут же развернулась дискуссия. «Компьютер, компьютер! Человек— компьютер! И это — прекрасно! Как многое объясняет столь новое видение человека!» Так сразу же закричала одна из спорящих сторон. Другая сторона мрачно констатировала: «Увы, человек — компьютер. И это — ужасно! Все мы запрограммированы! Всякая индивидуальность умерла! Она оказалась всего лишь набором программ!» Некогда землекоп испытал немалый шок, увидев экскаватор в работе. Он, конечно, впал в уныние, почувствовав себя поначалу несовершенным и маломощным экскаватором. Но потом присмотрелся и увидел, что машина придумана человеком, сделана человеком и управляет ей человек. Шок был успешно преодолен. Землекоп отправился на курсы экскаваторщиков и легко справился со своими комплексами. Если спросить сегодняшнего экскаваторщика, не экскаватор ли он, вопрос не вызовет у него никаких размышлений — ни радостных, ни грустных. Одно только непонимание с последующим негодованием и парой-другой сильных выражений. И сегодня, впервые увидев компьютер в работе, человек неизбежно переживает шок. Должно пройти определенное время, в течение которого он будет чувствовать себя несовершенным и маломощным компьютером. Он, конечно, на первых порах будет бодриться и даже попытается обыграть компьютер в шахматы — точно так же, как дикие сыны степей в свое время пытались перегнать верхом на лошади паровоз. Еще пару десятилетий будут сниматься фильмы про киборгов — этаких людей с компьютерной начинкой. Кто-то порадуется перспективе обрести новые внутренние органы из нержавейки взамен барахлящих. Кто-то выразит опасения, написав корявым почерком письмо в редакцию: «А не вытеснят ли человечество с Земли эти самые киборги?» Потом все понемногу успокоится. Все приглядятся и увидят, что компьютер придуман человеком, сделан человеком и управляет им человек. Так что это не человек тягается с компьютером. Это индивид соперничает с человечеством, что совершенно бессмысленно. В каждом ПТУ будущего откроются курсы для продвинутых пользователей, и компьютер превратится в дело житейское. С этого момента он перестанет вызывать энтузиазм или оторопь. Человечество уверенно будет ставить его в один ряд с утюгом, паровозом и экскаватором. Жгучий вопрос о том, компьютер человек или не компьютер, утратит свою свежесть и эвристическую ценность. Все понемногу поймут, что компьютер — это одно, а человек — несколько другое. А пока этого не случилось, человек может использовать очередной повод задуматься о себе — словом, пофилософствовать. Ведь всякая новая техника всего лишь увеличивает в сотни раз ту или иную человеческую способность, на которую раньше особого внимания не обращали. К примеру, и до изобретения экскаватора все прекрасно знали, что человек способен копать. Знали, но не придавали этому какого-то особенного значения. Подумаешь, невидаль! И до изобретения кузнечного пресса даже ребенку было известно, что кузнец может с большей или меньшей пользой бить молотом по железу. Но когда эти тривиальные человеческие способности наглядно воплощались в машине увеличенными в сотни раз, словно под гигантской лупой, человек заново открывал их в себе. Он узнавал себя в машине, словно в увеличивающем зеркале, и получал возможность задуматься о своей сущности, предназначении и смысле жизни. При этом рассуждения разворачивались приблизительно по следующей схеме. Вот некий изобретатель X изобрел кузнечный пресс. Он положил на это изобретение и его техническое воплощение немалую часть своей жизни. Жизнью умный человек дорожит. Он не станет тратить ее на то, что считает глупостью. Стало быть, изобретатель X наверняка полагал, что ковать — самое важное человеческое дело на свете. Он явно думал, что тот, кто лучше всех кует, непременно станет властелином мира. А коли так, то вся жизнь общества должна вращаться вокруг кузнечного цеха. Но прав ли был изобретатель X? Действительно ли ковать что-то там такое железное — это главное предназначение человека? Главное его свойство и смысл всей его жизни? И мы сегодня, глядя на стремительно обучающийся и стремительно забывающий компьютер, думаем вовсе не об этом агрегате. Мы думаем о системе жизненных представлений его изобретателей. Они, положившие на разработку компьютерной техники значительную часть жизни, наверняка оправдывали такие траты мыслью о том, что скоростное усвоение информации и столь же стремительное расставание с ней — самое главное человеческое дело на свете. Они явно полагали, что именно тот, кто быстрее всех обучается и быстрее всех забывает ненужное, наверняка будет властелином мира. А какая-нибудь Силиконовая долина непременно превратится в центр мироздания. Но так ли они правы? Действительно ли стремительное обучение и стремительное забывание — это главное предназначение человека? Основная его черта и смысл всей его жизни? Размышляя подобным образом, мы неизбежно увидим за машиной портрет создавшего ее человека. И поймем, что этот человек — прагматист до мозга костей. Компьютер — это он сам, представленный в идеальном виде. Быстро обучаться и быстро забывать — таково кредо идеального приспособленца, которого народ русский именовал затычкой к каждой бочке или пострелом, поспевающим везде. Такой человек не имеет никаких стойких убеждений и принципов. Он всегда готов избавиться от них, забыть как устаревшую информацию и быстро «загрузиться» новыми. Одним из первых такого человека без личных свойств описал А.П. Чехов. Героиня его рассказа «Душечка», Оленька Племянникова, «была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая» [2]. Как у всякого великого писателя, у А.П. Чехова нет ничего случайного. А как у всякого пишущего врача, в его портретах всегда есть нечто от диагноза. Так что констатация «очень здоровая» очень важна: верность принципам и здоровье сочетаются редко. Именно переменчивость Оленьки Племянниковой, ее способность легко осваиваться в новых жизненных обстоятельствах и обеспечивают ей полную несмятенность души. Язва, как было однажды замечено, проистекает не от того, что человек ест, а от того, что гложет самого человека. Очень здоровую Оленьку Племянникову с полными розовыми щеками, мягкой белой шеей и доброй наивной улыбкой не гложет абсолютно ничего при очередной полной смене жизненных приоритетов. Вот она в первый раз вышла замуж за антрепренера Кукина — и моментально загрузилась его программой. «И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. — Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите» [3]. Потом муж ее Кукин умер, и через три месяца она познакомилась с управляющим лесным складом. Выйдя за него замуж, она быстро забыла о театре и тут же прониклась торговлей лесом. «— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, — говорила она покупателям и знакомым. — Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. — Какой тариф! Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно: — Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!» [4] Перезагрузка очередной программой, как видим, была настолько полной, что охватила даже сны. Программа действовала шесть лет, пока не умер и второй муж. После шести месяцев строжайшего траура она стала пить чай с ветеринаром и вскоре сказала на почте одной знакомой даме: «— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей» [5]. Но ветеринар уехал вместе со своим полком, и у Оленьки начался тяжелый душевный кризис — от полного отсутствия собственных жизненных ориентиров. У нее уже не было мнения, к которому она могла бы присоединиться. «Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле. А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни» [6]. Казалось бы, Чехов объясняет переменчивость Оленьки ее жалостливостью, которая на Руси, как известно, была синонимом женской любви: «Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого» [7]. Но, если присмотреться внимательнее, то окажется, что эта жалостливая любовь всегда давала странный результат. Всякий раз, проникшись жизневоззрением мужа, Оленька начинала полнеть и наливаться здоровьем. Мужья же, наоборот, хирели и умирали, словно из них отсасывались какие-то жизненные соки. А вот когда уехал ветеринар, быстро «похудела и подурнела» [8] сама Оленька, оставшись без опоры. Поистине, она была человеком, подобным лиане, которая способна опираться для своего роста на что угодно. На дерево, на стену дома, на столб — не важно. Лишь бы была твердая опора. Если такой опоры не обнаружится, лиане останется только ползти по земле. Там она быстро захиреет, потому что не сможет подняться сама. Любой лопух быстро лишит ее света и воды. Так что любовь-жалость на поверку оборачивается весьма эгоистичным способом выживания. Скажи А.П. Чехов об этом открытым текстом, он усугубил бы свою репутацию самого циничного писателя в мире, которой давно пользуется на Западе. И — совершенно зря! Врач профессионально видит за культурой натуру, но, в отличие от циника, ничуть не бравирует этим. Зато любой сегодняшний искатель высокооплачиваемых рабочих мест даст сто очков форы самым отъявленным циникам позапрошлого века. Он деловито, с карандашиком в руках штудирует писания Дейла Карнеги, этого певца лиан-душечек. Если Оленька Племянникова искренне полагала, что она любит своих мужей, которые давали ей работу, то Дейл Карнеги учит имитировать любовь и симпатию, чтобы таким образом заработать деньги. Темный инстинкт Оленьки осознан и проанализирован психологами-манипуляторами. Они превратили его в стратегию жизненного успеха и торгуют этим своим знанием. Все советы Д. Карнеги — это советы подчиненному или коммивояжеру, который должен держать нос по ветру и быстро приспособиться к нраву того, кто принимает решения. Но сам этот вечный подчиненный и коммивояжер никогда решений принимать не будет. Пусть он вечно кипятится, пусть жалуется сослуживцам на то, что начальник — дуб, столб, пусть сравнивает его со стеной, от которой все отскакивает, словно горох. Все это не стоит принимать всерьез. Именно дуб, столб и стена нужны лиане для роста. Коллектив, состоящий из одних супергибких и стремительно растущих лиан, обречен на погибель. Наличие непреклонного консерватора-дуба, неспособного быстро обучаться и быстро забывать выученное, является обязательным условием его процветания. Именно он, дуб, и возглавляет самый творческий и динамичный коллектив лиан. Ему и достаются основные награды, намекающие на его древесную несгибаемость и стоеросовость — всякие лавровые венки и ордена с дубовыми листьями. Именно его благоговейно именуют столпом общества. Поэтому настоящее образование, способное обеспечить выживание обществу, вовсе не должно быть подготовкой одних лиан-«знатоков». Оно непременно должно воспроизводить и дубов-начальников. И такое воспроизводство вовсе не должно быть штучным. Ведь непреклонностью дуба не может отличаться начальник в единственном числе: лианы, во множестве обвив эту единственную опору, быстро ее задушат и засохнут сами. Дуб-начальник должен быть поддержан достаточным множеством дубов-аппаратчиков. Эта славная дубрава не может не радовать глаз истинного знатока: именно она и обеспечивает устойчивость любой системы. Из сказанного ясно, что было бы большой ошибкой впадать в три следующих распространенных убеждения: а) все человечество можно строго разделить на два противоположных вида — дубы и лианы; б) все дубы страдают недостатком образования; в) все дубы принадлежат к старшему поколению, а все лианы — к младшему. В наивности третьего из названных предрассудков легко убедиться, наблюдая за нынешними директорами из молодых. Такими наблюдениями недавно поделился талантливый эссеист из Екатеринбурга Лев Кощеев: «Еще совсем недавно человеку, достигшему середины четвертого десятка, едва начинали доверять серьезное дело и должности; теперь же, находясь в таком возрасте, ловишь себя на том, что есть что вспоминать. И есть смысл вспоминать, рассказывать — вокруг совсем другая жизнь, нежели несколькими годами раньше, и те, кто младше тебя всего лет на пять-десять, той жизни уже не застали. На секунду в комнате нависает пауза, и, глядя, как блаженная полуулыбка озаряет лицо их сравнительно молодого начальника, подчиненные в ужасе и тоске закатывают глаза. Интуиция их не подводит, потому что начинается неспешный, бесконечный рассказ («И было у меня две рубахи: одна джинсовая, «Коллинз» — на каждый день, и другая — «Пьер Карден» — на праздники и для стрелки. А пальто-то хорошее у меня появилось гораздо позже, уже при Черномырдине, но я уж как влезал в него по осени, так и ходил до самого Дня независимости. Начальника своего я уважал до безумия... Выполнял все распоряжения точно и в срок...») Самое потрясающее, что теперь можно совмещать две роли, казалось бы, взаимоисключающие: "завершив указанное ветеранское повествование, уже спустя полчаса можно изъясняться в сыновней тональности: «Мама, теперь так уже никто не носит». Конечно, эта скорость истории несет с собой главную, пожалуй, свободу: свободу от эпохи. Человеку теперь не обязательно подлаживаться к этой самой эпохе, чтобы жизнь состоялась, — если эпоха не дает тебе жить, ее запросто можно переждать... Но вместо радости по поводу быстрой смены эпох мы испытываем лишь безмерную усталость. Человек настроен на стабильность и определенность: мы как пассажиры поезда, убежденные, что как можно быстрее должны сойти с него на одной из станций и остаться там жить» [9]. И дубы ныне бывают молодыми — как, впрочем, и в предшествующие эпохи. И образование у них точно такое же, как у лиан. Это только слабонервные академики думают, что назначение образовательной системы состоит в производстве отличников. Не можешь быть отличником — в школу не ходи! Нет, искусство взращивания дубов ничуть не проще, чем искусство взращивания лиан. Здесь важно не переплачивать учителям, тщательно стандартизировать их деятельность, умело внедрять образовательные технологии своевременного окучивания и кропотливо осуществлять методическое руководство, не допускающее появления всяких мичуринских мутантов. Больше того. Надо отчетливо сознавать, что плоха та лиана, которая не мечтает стать дубом. Собственно говоря, такой лианы и вовсе не бывает. Поскольку каждая лиана страстно жаждет устойчивости и покоя — тем больше, чем сильнее ее треплет ветер перемен. Словом, напрашивается тривиальный вывод: надежная образовательная система должна формировать в человеке и способность к изменчивости, и способность к устойчивости. После устаревания всех конкретных изученных сведений у ее выпускников должна оставаться не только чистая способность усваивать и забывать информацию, но и чистая способность не усваивать при нужде ничего лишнего и ничего лишнего не забывать, называя это верностью неким незыблемым принципам, в своей неопределенности похожим, скорее, на смутные ощущения. Именно вторая способность и имеется в виду, когда говорят о печати образования на челе (а также на лацкане — в виде университетского значка и на стене — в виде диплома в рамочке). Слово «образование», как подсказывает нам русский язык, обозначает процесс преодоления безобразного. До образования, как предполагается, наличествовал некий бессмысленный хаос, никакого определенного образа не имевший. Но образование состоялось, и хаос был успешно преодолен. Обратим внимание и еще на одну важную тонкость: никто не пишет в анкетной графе «образование» — «доктор наук» или «академик». Считается, что высшее образование получает именно студент. Как же так? Неужели образование доктора или академика не выше? Но в том-то и дело, что знания доктора или академика образованием называть как-то не принято. Что — неспроста! Тот же русский язык подсказывает нам, что образовываемый — это существо в интеллектуальном смысле пассивное. Его образовывают, а он в лучшем случае принимает в этом процессе минимальное посильное участие, не противясь. Хорошо образованный человек, по законам русского языка, должен являть собой прочно застывший результат, никаким серьезным изменениям не поддающийся. Этакая глыба, в смысле — матерый человечище. Нехитрые знания профана — еще не образование. А знания доктора наук — уже не образование. Это — уже результат разобразования, произведенного собственными силами. Ученый-исследователь всячески избавляется от того отпечатка образования, который был наложен на него в университете. Эта печать на нем становится с каждым годом все более и более расплывчатой. А нечеткая печать — это разве печать? Ни один чиновник ее никогда не признает. И ни один нормальный работодатель, если он не хочет лишних проблем, не возьмет на работу человека, на котором еще нет или уже нет четкой печати образования... Почему? 8. Витальная потребность в мировоззрении Почему на лице у работника должна лежать четкая и неизгладимая печать образования? Почему начальник должен быть крепок умом, как дуб? Почему подчиненные отмечают эту его черту с некоторым удовольствием, сразу прекращая нервничать и с новыми силами приступая к работе? Почему нормой в обществе должна быть легкая степень слабоумия? Почему обществу так нужно, чтобы любой работник достигал в своем карьерном росте уровня некомпетентности и закреплялся на нем? Почему интеллектуал никогда не сделает политической карьеры? Ответ на все эти вопросы может быть только один: Потому что у человека существует витальная потребность в устойчивом мировоззрении. Попытаемся без спешки разъяснить этот тезис. Начнем издалека. Давным-давно, в конце VI — начале V века до рождества Христова жил в городе Эфесе очень сварливый и неуживчивый человек, которого звали Гераклитом. Сограждане удостоили его прозвища Плачущий, однако меланхолия сочеталась в Гераклите с агрессивной мизантропией. Он ненавидел всех людей вместе и каждого по отдельности, крайне низко ставя их умственные способности. Вот что пишет о Гераклите деликатный Б. Рассел: «...Гераклит, по-видимому, не обладал добродушным характером. Он был склонен к сарказму и представлял собой полную противоположность демократу. Относительно своих сограждан он говорит: «Правильно поступили бы эфесцы, если бы все они, сколько ни есть возмужалых, повесили друг друга и оставили город для несовершеннолетних, — они, изгнавшие Гермодора, мужа наилучшего среди них, со словами: «Да не будет среди нас никто наилучшим, если же таковой окажется, то пусть он живет в другом месте и среди других». Он плохо отзывался обо всех известных своих предшественниках...: «Гомер заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных мест и быть высеченным розгами»... «Многознание не научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея». «Пифагор ...составил себе...свою мудрость: многознание и обман <...> Презрение к человечеству заставляет Гераклита думать, что только сила может принудить людей действовать в соответствии с их собственным благом. Он говорит: «Всякое животное направляется к корму бичом»...» [10] Можно, конечно, усмотреть в такой сварливости Гераклита причины внешние, социальные. Действительно, он был потомком царей во времена демократии, когда от царской власти осталась одна видимость. Князь С.Н. Трубецкой, сам принадлежавший к одной из родовитейших семей России, специально обращает внимание на эту сторону жизни Гераклита — потомка последнего царя Аттики, легендарного Кодра: «Гераклит был именитейшим эфесским гражданином и, как старший в роде эфесских кодридов, имел право на сан «царя» (басилевса), с которым связывались некоторые уцелевшие почетные отличия и богослужебные функции... По-видимому, философ мало дорожил «царством» такого рода: он уступил царскую порфиру своему младшему брату и вовсе удалился от общественных дел отчасти из отвращения к демократии родного города, отчасти следуя своему философскому призванию. По преданию, он жил отшельником, изредка появляясь среди сограждан, возбуждая внимание своими странностями и желчными выходками» [11]. С первой из названных причин мизантропии Гераклита трудно не согласиться. Он действительно ненавидел людей, способных изгнать из города лучших ради достижения всеобщего равенства. Труднее понять, что подразумевает С.Н. Трубецкой, когда говорит, будто философское призвание стало второй причиной ненависти Гераклита к согражданам. Надо ли понимать это так, что всякий истинный философ должен быть человеконенавистником? Едва ли. Сам князь-философ спешит пояснить свою мысль следующим образом: «Отрицательное отношение Гераклита к толпе, та «мизантропия», о которой говорят его биографы, тесно связаны с глубоким сознанием суетности человеческой жизни, неразумия ее стремлений, бессмыслия тех целей, которые она себе ставит» [12] . Здесь, как представляется, есть одна существенная неточность. Гераклит не может презирать своих низкородных сограждан за суетность и бессмысленность их жизни, потому что они, по его мнению, просто не могут быть иными. Невозможно презирать кошку за то, что она — кошка. Или собаку — за то, что она собака. Суть человека подлого, то есть принадлежащего к черни, заключается в том, что в нем все течет. В нем преобладает та самая текучая вода, которая, по Гераклиту, есть смерть огня. Подлый человек не просто двуличен. Он меняет свое лицо по нескольку раз на дню. Это даже нельзя назвать сменой масок, поскольку предполагается, что под разными масками скрывается одно и то же лицо. А тут собственного лица нет вовсе. Ни в одном из подлых людей нет ничего постоянного. Ни на кого из них нельзя положиться. Никакие прочные отношения в обществе строить на такой зыбкой основе нельзя. О Гераклите в советские времена было написано много, но — по той же методе, о которой уже было сказано. Вначале из его учения выделили главную мысль, отбросив все второстепенное, а затем вложили в эту мысль правильное, марксистское содержание. Гераклит был назначен положительным героем истории философии. Подвиг его якобы заключался в том, что он стал родоначальником диалектики. В отличие от мыслителей из вражеского лагеря, антидиалектиков Парменида и Зенона, он полагал, что «все течет». И это можно было толковать как наивное предвестие всепобеждающей марксистской диалектики. Ну, наивное, так ведь что возьмешь с мыслителя древнего, жившего еще в рабовладельческие времена? Когда еще не было фабрично-заводского пролетариата! Гераклита сделали — как, впрочем, и всех остальных «своих», «положительных» мыслителей, — этаким недомарксистом. Однако при такой операции пришлось предать забвению в его учении кое-что такое, что партийной идеологии никак не соответствовало. Сегодня любой, прочитавший о Гераклите в учебнике советских времен, будет пребывать в уверенности, что античный мыслитель говорил только о текучести мира. В одну реку нельзя войти дважды только потому, что меняются воды реки. Река — это образ мира. Иными словами, меняется мир. А что же человек, который входит в воды реки во второй раз? Меняется ли он? Советские историки философии как-то заминали этот вопрос. О том, каков человек, во второй раз входящий в реку, они молчали или говорили невнятно. И на то были веские причины. Ведь в стране существовал культ твердого партийца. Образ металла, как нельзя более соответствующий ему, был расхожим в большевистской литературе и во всей советской мифологии. Вот культовый роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Вот Сталин (на самом деле Джугашвили). Вот Молотов (на самом деле Скрябин). Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей! Даже бывший анархист Анатолий Григорьевич Железняков был причислен к лику твердых партийцев — исключительно из-за фамилии. Как же! Именно он, матрос Железняк, разогнал Учредительное собрание, которое должно было принять конституцию демократической России. Конечно же, человек — разумеется, если он истинный партиец — меняться не должен! Он тверд в своих убеждениях. Он не может поступиться принципами. Колебались и изменялись только всяческие изменники-ревизионисты, не говоря уже о Временном правительстве. Уже за одно свое название оно заслуживало презрения. Временное — значит, непостоянное, непрочное, по природе своей склонное к измене. Которые тут временные? Слазь! Положительно, большевики считали, что в гераклитовскую реку должен был входить точь-в-точь тот же человек, что и прошлый раз. Даже малейших изменений в нем не предполагалось. Если довести большевистскую интерпретацию гераклитовского образа до логического конца, то и входить-то в реку истинному партийцу не следовало. Он должен был занимать твердую, непоколебимую позицию — где-нибудь на берегу. ( К тому же надо помнить, что вода скверно действует на железо.) Лучше уж уподобить его гранитному утесу у реки, который будет выгодно контрастировать с изменчивостью и текучестью потока. Мир меняется, но нам не к лицу меняться вместе с ним! Мы не можем поступиться принципами. Между тем у Гераклита все выглядит совсем не так. Он говорит не только об изменчивости реки, и об изменчивости человека: «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку и нельзя застать дважды нечто смертное в том же состоянии, ибо по причине стремительности и скорости изменений все распадается и собирается, приходит и уходит» [13]. Вот тебе и раз! Если нельзя застать дважды нечто смертное в одном и том же состоянии, то налицо прямое оправдание Гераклитом легкого политического поведения Троцкого нему подобных неустойчивых субъектов. Нет, вопросов изменчивости входящего в реку человека следовало непременно замять! Но если мы избавимся, наконец, от такой явно тенденциозной интерпретации учения Гераклита, оно откроется нам с совершенной новой стороны. Оно позволит нам поразмыслить не об окружающем мире, а о человеческой психологии. Может ли человек уверенно чувствовать себя в мире, который непрерывно меняется? В мире, который течет? В мире, подобном реке, в которую нельзя войти дважды, поскольку вода в ней ежедневно меняется? Современные западные психологи не только ответили на подобный вопрос однозначно отрицательно. Они даже замерили предельные количественные параметры изменений, которые человек способен вынести. Оказывается, невроз начинается у горожанина уже тогда, когда более десяти процентов домов на его улице меняют свой вид на протяжении года. И ведь речь идет не только о сносе старых домов и постройке новых! Достаточно одной перекраски фасадов, устройства новых витрин, появления новых вывесок, световых реклам и растяжек, чтобы вывести человека из психического равновесия. А что же будет, если станут непрерывно меняться не только дома, но и люди, которые в них живут? Если будут ежедневно менять свои позиции и мнения политики, юристы, менеджеры, журналисты? Если президенты будут избираться каждый год? Если каждый месяц будут меняться начальники на работе? Такого не вынесет даже человек современный, которого переменами не удивишь. Что же тогда говорить о неспешных древних греках, способных не до середины, а полностью прочесть гомеровский список кораблей? Они и подавно не могли принять чудовищного, невротического смысла учения Гераклита, согласиться с тем, что все течет, а в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Дело еще усугубил ученик Гераклита Кратил. Он заявил, что в одну и ту же реку нельзя войти даже один раз. Ведь воды в реке меняются с каждым шагом! А человек, который входит в них, меняется еще быстрее! Он становится другим с каждой новой мыслью, с каждым новым чувством, с каждым новым ощущением. Поэтому, утверждал Кратил, никого нельзя даже назвать по имени! В самом деле, станем рассуждать. Попробуем, глядя на бегущую стрелку своих часов, назвать время с точностью до секунды. Это невозможно! Пока ты говоришь самой быстрой скороговоркой: «Два часа пять минут пятнадцать секунд», уже станет два часа пять минут шестнадцать секунд. Точное время назвать нельзя. Но ведь мысль человеческая движется значительно быстрее секундной стрелки. За один миг можно мысленно перенестись из Владивостока в Москву и обратно! За один-единственный миг можно испытать такое, что ты уже никогда не будешь прежним! Значит, и человека назвать по имени нельзя тоже. Пока ты называешь его прежним именем, он уже успевает измениться и стать кем-то другим — даже если его зовут не длинным именем Иммануил, а каким-нибудь причудливо кратким, американским. Бак, там, или Люк какой-нибудь. Или, к примеру, Том. Строго говоря, Томом некогда назвали существо ростом 51 сантиметр и весом 3,5 килограмма. Какой же это Том сейчас, спрашивается, когда его вес перевалил за центнер? Да и в голове у Томас тех пор произошли некоторые изменения. Логика Кратила была безукоризненной. Но вовсе не логичность рассуждений имеет определяющее значение, когда люди решают, принимать им какую-либо философию или не принимать. Тут важно другое: можно ли с такой философией жить именно так, как тебе хочется, но чувствуя себя при этом человеком значительным и уважаемым? Учения Гераклита и Кратила этому требованию явно не удовлетворяли. Что же тут, спрашивается, уважать, когда все течет, а всякие принципы отсутствуют напрочь? Лианой с такой философией быть можно. Но ведь каждая лиана хочет почувствовать себя дубом — хотя бы в чем -то, хотя бы ненадолго... Именно поэтому учения Гераклита и Кратила вызвали открытое неприятие. За недостатком логических контр-аргументов сограждане прибегли к смеху. Смех бывает разным. Иногда он возникает от ужаса. Вспомним Пьеро, который велел Мальвине смеяться самым громким смехом, видя, что к ним приближается огромный и страшный Карабас... Жители Эфеса тоже принялись шутить изо всех сил, пытаясь вернуть себе психическое равновесие. Чтобы не принимать Гераклита всерьез, они придумали анекдот про его смерть, используя его собственные высказывания. Этот Гераклит якобы заболел водянкой. (Вода есть смерть огня!) Он пошел к врачам, но те не стали ему помогать. Ведь это он, Гераклит, всячески издевался над ними, когда доказывал, что понятия о добре и зле относительны — ведь врачи, режущие и мучающие больных, думают, что творят добро. Тогда Гераклит занялся самолечением: намазался грязью и лег на солнышке, чтобы из него оттянуло лишнюю воду. Однако собаки не узнали его в таком виде и растерзали. (Говорил же Гераклит, что собаки лают на тех, кого они не знают!) Анекдотом дело не ограничилось. На улицах разыгрывались такие импровизированные скетчи: — Отдай мне долг! — Какой еще долг? — Ты вчера брал у меня деньги взаймы! — Разве ты не знаешь, чему учит Гераклит? Я сегодня — уже не я, да и ты — уже не ты. Отойди, незнакомец, ничего я тебе не должен. После этого оба актера-любителя громко смеялись, подобно Мальвине. Ведь смех — как и плач — похож на катапульту, с помощью которой человек выбрасывается из катастрофической ситуации, выражая тем самым полную неспособность жить в предлагаемых обстоятельствах. Действительно, было бы просто ужасно существовать в мире, в котором все течет. В мире, где ни от кого нельзя ждать устойчивости и надежности, верности и исполнения обещаний. В мире, где каждое утро приходилось бы начинать все сначала среди незнакомых людей. Смех эфесцев был аргументом от жизни, а не от теории. Это уже потом Парменид попытался обосновать защиту от невротизирующей философии Гераклита теоретически, доказывая, что движение — всего лишь чистая видимость, а на самом деле мир неизменен, прочен и устойчив. Однако чисто теоретическим этот спор никогда не был. Сограждане Гераклита, в отличие от сегодняшних сторонников чистого умозрения в области философии, быстро сообразили, что в философии далеко не всегда говорится именно о том, о чем говорится. В ней бывают и намеки. И рассуждения о мире-реке есть прежде всего намек на переменчивость человека. А современный психолог — тот сразу сказал бы, что именно свою внутреннюю неустойчивость, отсутствие внутренней опоры в собственной душе Гераклит проецировал на окружающий мир. И формула «Все течет» говорила не столько о мире, сколько о его собственном душевном непокое. Разумеется, Гераклит пытался справиться с ним. В учении любого мыслителя всегда выражается не только его наличное внутреннее состояние, но и его попытки овладеть ситуацией в собственной душе. Он изображает не только то, что в ней есть, но и то, чего он стремится достичь. Что же противопоставляет Гераклит низким, постоянно меняющимся душам, безнадежно испорченным текучей влагой? Душу мудреца-аристократа, которая есть сухой, горячий огонь. Как таковой, она, разумеется, причастна тому великому и разумному огню, который представляет собой суть мира. Тому самому, который «мерами вспыхивает и мерами затухает». Гераклит, конечно, видел себя именно таким мудрецом-аристократом. И, стало быть, ощущал свою душу мерами вспыхивающим и затухающим огнем? Могла ли кого-нибудь из его сограждан вдохновить такая альтернатива? Едва ли. Огонь так же изменчив, как и вечно текущий поток. Вся разница только в том, что огонь все время устремляется ввысь, а вода, даже самая быстрая, тяготеет к земле, выбирая самые низменные места. Эта разница была важна для Гераклита. Но его сограждане, жившие обыденной жизнью, не усматривали особой разницы между человеком воды и человеком огня. Человек огня так же непостоянен. Он тоже не отдаст долг назавтра, заявив, что уже не тот, что вчера. На него тоже нельзя положиться, нельзя построить с ним прочные и надежные отношения. Да и можно ли жить спокойно, чувствуя, что твоя душа — это огонь? Не жжет ли он тебя изнутри? Какой-то странный это разум, который то вспыхивает, то затухает... Не значит ли это, что нет в гераклитовской душе ничего такого, что ощущалось бы как устойчиво обретенное, надежное и проверенное? Не пожирается ли оно снова и снова огнем? Не превращается ли в золу? Образ огня оказывается столь же невротическим, сколь и образ несущегося потока... Смысл загадочного гераклитовского фрагмента «Собаки лают на тех, кого они не знают» автору этих строк несколько прояснила частушка, зажигательно исполненная каким-то народным хором: Я иду, иду, иду. Собаки лают на пруду. Что ж вы, суки, лаете? Вы ж меня не знаете! И Гераклита, и неведомого поэта из российской глубинки удивляло, должно быть, одно и то же — собаки лают на незнакомых людей. Человека знакомого они не облаивают, даже если он вполне того заслуживает. Собаки злобятся на того, кого не знают совершенно, — их бесит неизвестность. Но когда Гераклит полагает, что «нельзя застать дважды нечто смертное в том же состоянии», не становится ли это для него причиной для постоянной злобы на людей? А если ты чувствуешь, что и сам непрерывно меняешься до неузнаваемости? Не испытываешь ли ты, вчерашний, злобы на себя сегодняшнего? Не грызешь ли ты себя непрерывно? Эту невротическую диалектику собственного Я, которое стремится стать всем, но, терпя крах, то и дело превращает себя в ничто, ненавидя себя в таком уничижении, спустя двадцать четыре века подробнейшим образом опишет С. Кьеркегор. Не занимался ли Гераклит подобным самоедством? Не выразил ли его в своих образах потока и огня, в которых одинаково нет брода? На которые одинаково нельзя положиться? Мы не знаем и уже никогда не узнаем этого. Зато мы знаем другое. Семьдесят лет непрерывного и повсеместного насаждения диалектического мышления в Стране Советов закончились неудачей. Выучив и сдав обязательную премудрость о том, что все течет, что противоположности непрерывно борются и переходят друг в друга, многомиллионные массы россиян быстро выбрасывали ее из головы. В лучшем случае они рассматривали диалектику как некие экзотические умственные упражнения — и многие годы спустя вспоминали их даже с некоторой теплотой. Так бывший цирковой акробат, давно ушедший на заслуженный отдых, с удовольствием вспоминает свои кувыркания под куполом цирка. Эх... Были когда-то и мы рысаками... Но цирк есть цирк, а жизнь — это жизнь. Даже самый лихой акробат, закрыв за собой двери цирка, идет по улице обычной походкой — точно так же, как и все люди. Он не делает ни кульбитов, ни сальто-мортале. И самый большой энтузиаст диалектики, выходя из аудитории, тут же забывает о всякой умственной акробатике с диалектическими скачками. Он отчетливо сознает, что диалектика, превращенная в философию повседневной жизни, привела бы его прямиком в сумасшедший дом. Невозможно жить и действовать в мире, если всерьез полагать, что день и ночь — одно, что путь вверх и путь вниз — один и тот же, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Невозможно строить отношения с людьми, если считать, что никого нельзя назвать по имени. Человек противится гераклитовской диалектике не просто умом — всей своей жизнью, чаще всего сам не сознавая того. Он бессознательно стремится остановить в ней все изменения. Высшая похвала другу, встреченному после долгой разлуки, если вдуматься, похожа на оскорбление: «Ты ничуть не изменился за эти двадцать лет!» Но друг ничуть не обижается. Он радостно отвечает: «Ты — тоже!» Отсутствие новостей считается лучшей новостью — и не только у англичан. Мир должен быть прочным, надежным и предсказуемым. Древнекитайское проклятие: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!» —давно стало интернациональным. Такую жизнь можно выносить, только заботливо и ежедневно восстанавливая всей силой мысли иллюзию устойчивого порядка — вокруг себя и внутри себя. Ницше был прав: уйти далеко может лишь тот, кто везде чувствует себя, как дома. Молодой психиатр Карл Ясперс, в отличие от своих коллег, очень хотел знать, каким видится мир тому, кто страдает психозом. Его коллеги были более прагматичны. Поставив диагноз, они сразу задумывались о лечении. Зафиксировав бред как факт, они уже не интересовались его содержанием. Больной — он и есть больной. Его надо лечить, а не слушать. Ясперс же внимательно слушал своих больных, требуя, чтобы они с максимальной точностью вспоминали и воспроизводили свои болезненные представления. В результате получилось такое феноменологическое описание психоза: «Существуют меланхолические состояния с ярко выраженным, искусственно сдерживаемым извне стремлением к самоубийству — состояния, в которых человек пребывает поистине в безнадежном отчаянии. Ничего больше не существует, все — сплошная иллюзия, просто подстроено искусственно, чтобы обмануть. Все люди мертвы. Мира больше нет. Что касается врачей и близких, то это просто фигуры-призраки. Больной вынужден существовать в одиночестве. Он — «Вечный Жид». Но и он тоже в действительности не существует. И он тоже — всего лишь кажущееся существование. Ничто не обладает никакой ценностью. Больной, по его словам, не может испытывать никаких чувств. И при этом у него — безмерный аффект отчаяния. Он — не тот человек, что прежде. Он — всего лишь точка. В чувствах и бредовых представлениях это переживание выражается в частностях, более развернуто: тело прогнило, оно полое внутри, проглоченная еда летит сквозь пустое пространство. Солнце погасло и т.п. В этом состоянии существует только интенсивность аффекта, отчаяние как таковое» [14]. В этой картине мира, вызванной психозом, можно заметить несколько если не гераклитовских, то кратиловских образов. Здесь действительно все течет — стремительно и непрерывно. Весь мир представляется больному иллюзией именно потому, что он зыбок и переменчив. Иллюзия является и исчезает — в отличие от вещи, которая остается и пребывает. Иллюзия — это вещь, которая непрерывно течет. Больной никого не может назвать по имени — ни окружающих, ни себя. Все окружающие — призраки. А сам он — лишь точка без каких- либо личных свойств. И это — тоже потому, что он не может застать себя дважды в одном и том же состоянии. Образ себя самого отсутствует именно по этой причине. А представление себя точкой выражает лишь отчаянную веру, что остается — должно оставаться!— хотя бы что-то, пусть и лишенное всяких качеств. Не может же мое Я быть разрушенным полностью! Ведь что-то же должно мыслить и чувствовать, пусть и сомневаясь во всем тотально! Полная зыбкость и текучесть мира — это уже не философия. Это — диагноз. Это — проявление тяжелой душевной болезни. Почему же? А потому, отвечает К. Ясперс, что у здорового человека есть нечто, заслуживающее названия «Trieb zur Weltanschauung» [15]. Немецкое «der Trieb» имеет множество значений — «импульс, порыв, побуждение, инстинкт, влечение, наклонность, склонность, стремление». Все они вполне подходят при переводе: у здорового человека есть импульс, заставляющий его создавать мировоззрение, есть порыв, заставляющий страстно желать мировоззрения, есть бессознательное влечение к мировоззрению, которое сродни инстинкту. Далее мы будем использовать такой вариант перевода — «витальная потребность в мировоззрении». Эта потребность витальна потому, что человек просто не способен жить, если не найдет возможности удовлетворить ее. Витальная потребность в мировоззрении и заставляет человека строить картину мира в целом, определяя свое место и возможности в нем. Так что человек никогда не превратится в некое подобие компьютера, который за считанные минуты может быть полностью перезагружен новыми программами без всякого вреда для себя. Постоянная перезагрузка привела бы человека к психозу, если бы не срабатывала система его психологической самозащиты, именуемая способностью формировать устойчивое мировоззрение. Сегодня принято думать, что такое устойчивое мировоззрение человеку может дать философия. Или религия. Это — неточно, а потому и неверно. Витальная потребность в мировоззрении существовала у человека задолго до возникновения той и другой. Весьма часто она удовлетворялась и по сей день удовлетворяется людьми, толком о философии и религии не ведающими. Вопреки распространенному мнению честолюбивых интеллектуалов, идеи вовсе не овладевают массами. Это массы овладевают идеями — но ровно в той мере, в какой идеи позволяют им выразить то, что они уже давно смутно чувствуют, не находя нужных слов. Никого нельзя научить ни философии, ни религии. Можно только научить человека более или менее внятно изъясняться на их языке, чтобы он выразил на нем то, что уже давно существует невыраженным в его собственной душе. 9. Простые элементы витального мировоззрения Представим себе, вполне в духе советских фантастов, некий лесопильный автоматический агрегат, предназначенный проделывать в тайге просеку без всякого участия человека. Этот агрегат двигался и двигался бы по прямой, совершенно не задаваясь никакими лишними мыслями о себе самом и своем положении в мире, пока не затерялся бы где-нибудь в приполярной тундре. Человек, работающий в тайге, такой железной невозмутимостью не обладает. Он будет ощущать беспокойство, если не сможет постоянно соотносить себя не только с данным участком леса, но и со всей планетой Земля в целом. Он утратит уверенность, если не сможет ориентироваться по сторонам света. Стало быть, ему нужно постоянно представлять себе, каков весь свет в целом и где какая его сторона. Но что представляет собой этот свет, стороны которого человеку необходимо знать? Он явно не ограничивается одной только Землей. Он охватывает и всю видимую часть космоса. Человек утратит душевное равновесие, если «потеряет» солнце. Даже тогда, когда он не видит светило, он всегда предполагает, где его солнце находится там, за облаками, откуда появится утром и куда зайдет вечером. Любой северянин знает, что долгая полярная ночь — это тяжелейшее психологическое испытание, привыкнуть к которому нельзя. И не только потому, что постоянная темнота гнетет. Еще больше гнетет смутная бессознательная тревога, возникающая от того, что солнце пребывает неведомо где. И такая смутная тревога отнюдь не проходит от изучения астрономии! Причину долгого отсутствия солнца на небосводе человеку давно объяснили в школе. Но такое разумное знание отнюдь не может унять беспокойства и подавленности. Именно потому встреча солнца после долгого отсутствия на небесах превращается в великий и всенародный праздник, который захватывает даже самых просвещенных людей — школьных учителей астрономии. Они тоже готовы поклоняться вновь обретенному светилу, словно язычники. Но и этого человеку недостаточно. Ему отчего-то надо непрерывно соотносить себя не только с планетой Земля, и с Солнцем, с Луной и звездами, но и со всем космосом в целом. Не было такого мига в истории человечества, в который каждый его представитель не мог бы ответить, не задумываясь, как устроена вся вселенная. Никакими практическими потребностями этого не объяснить. Мореплаватели, которым нужно было ориентироватся по звездам, никогда не составляли большинства человечества. И тем не менее любой человек всегда имел свое собственное представление об устройстве мира в целом. Оно витально необходимо ему, чтобы сохранять психическое равновесие. (Это хорошо известно нынешним шарлатанам, которые легко объясняют все неудачи и бедствия человека нарушением его «связи с астралом»: пользуемый ими немедленно и охотно с этим соглашается.) Чары древней и сегодняшней магии заключаются именно в том, что она возвращает человеку силы, вселяя в него уверенность: космос ничем не отличается от дома, знакомого и привычного. Здесь тоже при желании и умении можно все уладить: с кем-то договориться, кого-то пристрожить, на кого-то найти управу. И вообще все, как дома: до всего дойдут руки, все будет хорошо, все устроится по собственному хотению и вкусу. Нет во всем космосе, до самого его конца, ничего непривычного, неожиданного и пугающего. Дело житейское. Успокоенный этим, человек действительно начинает чувствовать себя всесильным. Даже нынешний скептик-горожанин, которому верить в магию не велели еще в начальных классах, относится к ближайшей части космоса далеко не рационально. На это, в частности, указывает Ф. Искандер: «Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают. — Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. — Погоду передают. Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело? Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна. Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное признание — это открывать и изобретать. Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственныи интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой. — Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока? — Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный до умеренного. — Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо. Разговор о погоде во все времена считался наилучшим и универсальным началом беседы с кем угодно, особенно — с незнакомцем. Хорошо воспитанный человек опасается поставить собеседника в тупик, предложив ему тему для разговора, в которой тот ничего не смыслит. Но ему известно, что про погоду имеет свое собственное мнение каждый! И мнение это всегда непосредственно вытекает из такого же сугубо собственного представления о том, что ныне происходит с планетой Земля и всем космосом в целом. Интересуясь погодой, человек поддерживает в себе витально необходимое ему чувство причастности к космосу. Он в курсе дела, а потому владеет ситуацией — точно так же, как ею владел средневековый маг. И точно так же, как владеет ситуацией на мировом рынке биржевой брокер, непрерывно следящий за курсом акций. Он, брокер, столь же снисходительно слушает заклинания экономистов-теоретиков, как москвич — прогнозы синоптиков. Потому что ситуацией в космосе по-настоящему владеет именно он, великий и единственный! В человеке действительно есть непреодолимая витальная потребность в мировоззрении, которая и заставляет его рисовать свою собственную картину космоса. Согласимся, что не только весь мир в целом, но даже и сколько-нибудь значительную его часть человек никогда не видит. Тем не менее каждый всегда твердо знает, каков он в целом, этот мир. Каждый уже объял его своим умственным взором. Даже темная бабушка, которая рассуждает на лавочке с подругами о том, что ракеты понаделали в небесном своде дырок, как в крыше, а потому с погодой творится неладное, своим умственным взором тоже объемлет вселенную. Конечно же, в разные исторические эпохи такие картины мира были различными. Мир плавал, подобно доске, в море. Мир стоял на трех китах. Мир был окружен небесным куполом, в который были вбиты хрустальные гвоздики — звезды. Да, картины мира менялись. Но они были всегда и у всех. Даже в одну и ту же историческую эпоху, даже в один и тот же ее день каждый человек без исключения имеет свое собственное представление о мире в целом. О, сколько причудливых и диковинных картин вселенной открылось бы перед нами, допроси мы с пристрастием наших современников — как просвещенных, так и непросвещенных! Они не совпали бы в деталях даже у двух учеников одного и того же класса, исправно ходивших на одни и те же уроки. Вначале — церковь, а века спустя — учителя, эти солдаты армии позитивистского Просвещения, непримиримо боролись со столь безбрежным разнообразием. Они упорно наставляли, каков космос на самом деле, и строго карали еретиков за отсебятину. Но, невзирая на строгие кары — от костров до постановки жирных «двоек» в дневник — человечество так и осталось неисправимым. Каждый по-прежнему строит себе свой космос сам. Одна из умеренно интеллигентных девиц, совсем недавно закончившая школу, всерьез пыталась убедить автора этих строк в том, что мир состоит из атомов, вокруг которых летают электрончики, а между атомами и электрончиками — воздух! Автор не стал допытываться, как, с точки зрения просвещенной девицы, выглядит вселенная в целом. И вовсе не потому, что побоялся свежести и оригинальности девичьих представлений о космосе. Юношеские представления — ничуть не лучше. А все они, вместе взятые, вполне стоят тех представлений, которых придерживаются люди среднего и старшего возраста. Сколь ни причудливы различия индивидуальных картин космоса, все такие картины создаются в строгом соответствии с одним общим требованием: мир должен быть устроен достаточно просто, закончен и, в принципе, обозрим — если не для глаз, то для ума. У него должны быть пределы, которых человек мог бы достичь, если бы захотел и если бы у него было побольше времени. Мы, конечно, еще не приблизились к окончательной истине, то есть не представили себе весь космос в завершенном виде, вплоть до окружающего его забора. Но это только потому, что нам недосуг. Отвлекаемые земной суетой, мы тем не менее шаг за шагом приближаемся к окончательной истине. Такое просветительское убеждение о полной познаваемости Вселенной не только льстит человеку, но и вполне отвечает его витальной потребности иметь надежную и обозримую картину мира, которая избавит от неврозов и психозов. И наоборот: история психиатрии свидетельствует, что больше всего людей сошло с ума, размышляя о бесконечности пространства и времени. Рассуждения астрономов о наличии «черных дыр» грозили бы подорвать психическое здоровье целых народов, если бы эта будоражащая информация не забывалась немедленно после школьного экзамена. Творцы научной фантастики, призванные примирять обыденное сознание со зловредными открытиями астрономов (физиков, химиков, биологов...), вполне допускают возможность нырнуть в черную дыру на каком-нибудь особом летательном аппарате и хорошенько познать все то, что там откроется просвещенному взору. Так что и эти временные прорехи в космическом заборе будут, в тенденции, устранены. Можно быть уверенным: витальная потребность в целостном мировоззрении будет прилежно штопать все черные дыры во вселенной по мере их возникновения. Представление о целостном, надежном и законченном мире витально необходимо каждому. Необходимо — но еще не достаточно! А потому, увязав все разнообразные и обрывочные сведения о мире с помощью своей фантазии и построив вокруг себя собственный причудливый космос, человек неизбежно переходит к решению следующей задачи. Теперь он начинает строить себе в этом космосе дом. Он никогда не обретет душевного покоя, если не будет знать, где в этом огромном мире, который открывается перед умственным взором, располагается его прибежище, его очаг и уют. Если бы автоматический лесопильный агрегат, описанный нами выше, мог петь, он непременно затянул бы великую песнь торжествующей бездомности: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Но это была песня официальная, неискренняя: она выражала пожелания и чаяния государства, желавшего повысить посредством вокально-инструментальных ансамблей мобильность рабочей силы. На самом же деле бездомность и бесприютность всегда были выражениями крайнего человеческого несчастья. Человек, оказавшийся даже не в дремучей тайге, а всего лишь посреди незнакомого лесопарка, страстно мечтает найти щит, на котором изображена его общая карта-схема. На Западе, в отличие от России, такая схема обычно представляет взору не только лесной массив как таковой, но и то место, в котором она расположена. На схеме нарисована стрелочка с надписью «Вы — здесь». Но даже такого указания еще недостаточно для заплутавшего путника. Ему, конечно, для полного счастья была бы необходима еще одна стрелочка — с надписью «Выход к вашему дому». Дом, разумеется, у каждого свой, а потому каждому такую стрелочку на схеме не нарисуешь. Направление к дому каждому приходится определять самостоятельно. Однако приходится признать: только сочетание всех трех компонентов — общего плана леса, нынешнего положения человека в нем и выхода к дому — может придать заблудшему уверенность и силы. Такая лесная карта-схема и есть идеальный наглядный образ витально необходимого мировоззрения. Три вещи надо было знать человеку во все времена для душевного спокойствия и равновесия: что представляет собой мир в целом; каково его, человека, нынешнее положение в этом мире; какая дорога ведет к дому. Причем знать непременно надо все три вещи сразу. Знание только двух из них неизбежно порождает растерянность и панику. Допустим, я знаю, каков мир в целом и где я в нем нахожусь, но не знаю, где мой дом. Это — плохо. Вариант второй: я знаю, каков мир в целом и где в нем мой дом, но не знаю, где я. Это — ничуть не лучше. Вариант третий: я знаю, где я и где мой дом, но не знаю, каков мир в целом. Это — тоже отвратительно. Неведомый мир вокруг моего убежища таит угрозу. Я непременно должен знать, что мир вокруг замкнут, дружественен и надежен. Я должен знать, что мой дом прочно опирается на скалу, а не на песок. Повторим еще раз: окрестный космос должен быть прочным, устойчивым и завершенным. Человеку подсознательно хотелось бы, чтобы прочную и незыблемую Вселенную окружал надежный забор, а по привычным дорожкам внутри него мог при желании прогуливаться его ум, озирая хорошо знакомые, возделанные грядки и клумбы. И, разумеется, центром Вселенной для человека всегда будет Земля, чтобы там ни говорил Коперник. Известный биолог А. Портман, не чуждый философско-антропологических размышлений, писал: «Мы — последователи Птолемея, если мы употребим это понятие в более широком смысле, чем это происходит в большинстве случаев. И мы останемся последователями Птолемея, пока человек будет тем видом, который мы сегодня знаем... Составной частью этого «птолемианства» в самом широком смысле является все наше отношение к полю гравитации наших планет, к смене дня и ночи, к верхнему миру света и темному внутреннему миру Земли. Составной частью этого «птолемианства» является первоначальный человеческий язык как полноценное выражение нашей связанной с Землей силы воображения. Все мечтание, все первоначальное, обладающее могучей силой представления мышление «у себя дома» в этом птолемеевском мире, в неосмысленном мире представлений изначального образа переживаний первичной связи с Землей. И как далеко ни забредают мышление и фантазия, они работают прежде всего с образами изначальной связи переживания, подлинная родина которой — Земля» [17]. Да, в реальной своей жизни и деятельности люди исходят из птолемеевских представлений, несмотря на все последующие астрономические открытия. Они исходят из того, что Солнце восходит на востоке и заходит на западе, исправно вращаясь вокруг Земли, которая есть центр мироздания. Теорию Коперника мы, конечно, знаем. Но в жизни она нам никак пригодиться не может. Поэтому мы отправляем ее в самую дальнюю кладовку памяти вместе с прочим ненужным хламом, изученным в школе. Именно так поступал практичный и мудрый Холмс, удивляя простодушного, хотя и просвещенного Ватсона. Решимся на еще более сильное утверждение. Мировоззрение, которое строит себе каждый человек, повинуясь витальной потребности, воспроизводит представления, существовавшие и до Коперника, и до Птолемея, и до всякой науки вообще. Да что там до науки — еще до человека! Мы, конечно, не особенно много знаем о том, как воспринимают свой мир животные. Но каждое из них, надо полагать, имеет витальное «представление» о своей территории, на которой чувствует себя уверенно, а также об убежище (логове, норе, гнезде...), представляющем «центр» этого малого мира. И окрестный космос тоже включен в эту систему инстинктивных «представлений». Иначе волки не выли бы на Луну, а птицы, совершающие сверхдальние перелеты, сбивались с пути. Просто человек, в отличие от животного, способен безгранично расширять свои знания о мире. Он может усиливать свои органы чувств, создавая приборы, а ум его способен проводить аналогии, перенося известные благодаря опыту связи на сферу неведомого. Но, выходя за пределы, предписанные ему физиологией органов чувств, человек вовсе не порывает с основной установкой, которая задается инстинктами. Дом человека навсегда останется центром его мира, какие бы религии он ни исповедовал и какие бы науки ни изучал. Пусть мой опыт и разум, многократно усиленный опытом и разумом всего человечества, позволяют мне уйти далеко за пределы той «окружающей среды», которой был ограничен мой далекий «природный» предок. Но исходная система базовых представлений останется прежней. Для того, чтобы я сохранял психологическую устойчивость, мне надо твердо знать, где мой дом, в который я могу вернуться — даже из космического полета. Да, сегодня я способен объехать весь мир — просто так, для развлечения, праздным туристом. Более того. Я могу окидывать весь мир взором, не вставая с любимого дивана: глядя на телеэкран, я чувствую себя подобным Богу всевидящему. Но моя исходная мироориентация ничуть не меняется от изобилия впечатлений. Мой диван остается центром мироздания, на котором я покоюсь недвижно, словно аристотелевский Нус. И пусть мир, мельтеша, вращается вокруг меня, вокруг моего незыблемого Дома. Дом остается центром вселенной, абсолютной точкой отсчета. Это — не просто геометрический центр. Это — смысловой центр космоса. По мере удаления от этого центра истинный смысл, нормальные представления о мудрости, добре и красоте все более и более утрачиваются. Исключения приятно удивляют. — Откуда этот галстук, Хайм? — Из Парижа. — И далеко ли этот Париж от Бердичева? — Да тысячи три километров. — Надо же, какая глушь, а какие приличные галстуки! Поскольку дома все устроено так, как оно и должно быть, поскольку все домашние вещи и отношения только здесь и имеют тот смысл, какой им и подобает иметь, все в окрестном мире, дальнем и ближнем, объясняется по аналогии с ними. Платон приписал это человеческое, чересчур человеческое свойство своему Богу — эйдосу блага. Именно в наднебесье, то есть у него, Бога, дома, только и могут существовать созданные им остальные эйдосы как недосягаемые образцы для всего земного, удаленного, а потому и несовершенного. Галстук бердичевский был, есть и будет эйдосом для галстуков всего остального мира. Человек современный искренне потешается над антропоморфизмом дикарей, которые полагают, что дерево цветет от счастливой любви, а сохнет — от неразделенной, что река разливается, потому что гуляет. Но, отсмеявшись, нынешние ученые все так же продолжают судить о космосе по аналогии со своим «домашним» существованием. Вся разница состоит только в том, что границы прилегающих к их дому участков сильно раздвинулись благодаря научно-техническому прогрессу. Глаза ученого усилены мощными телескопами и микроскопами. Он, казалось бы, видит много больше. Но действительно ли это так? Ведь видит человек только то, что уже готов увидеть. А готов он увидеть то, что привык видеть дома. Именно на это и намекает известный детский стишок: — Где ты была сегодня, киска? — У королевы у английской. — Что ты видала при дворе? — Видала мышку на ковре. Титаны физической науки XX века видели в космосе все ту же привычную домашнюю мышку: «Так, «открытые»Скиапарелли и Ловеллом каналы на Марсе едва ли были лишь оптической иллюзией в результате использования несовершенной телескопической техники. О них заговорили, когда в памяти всех еще жив был ажиотаж, связанный с прорытием Суэцкого канала, и когда сооружался Панамский канал. Ряд последующих «открытий» на Марсе в том же роде. Когда на кораблях военно-морского флота в первую мировую войну стали применять прожекторную сигнализацию, астрономы усмотрели световые сигналы и на Марсе; когда появилось радио, то зарегистрировали позывные и с Марса; когда запустили искусственные спутники Земли, то Шкловский выдвинул гипотезу, что Фобос и Деймос искусственно созданы. Именно полеты земных космонавтов — источник представлений Агреста, Казанцева и Дэникена о посещении Земли пришельцами с инопланетных цивилизаций и всех этих тенденциозных и фантастических объяснений гибели Содома и Гоморры, происхождения плит Баальбекской террасы, тектитов и фресок Тассили, завершившихся новой интерпретацией древнейшей истории, мифологии и Библии в стиле одностороннего техницистского мышления» [18]. Да, и сегодня человек упорно продолжает примысливать себя к мирозданию. Само слово «миро-здание» указывает на то, что космос представляется ему продолжением и подобием собственного дома. Казалось бы, ничего общего между домом человека и космосом нет. Другие расстояния, другие размеры, другие температуры... Да что там говорить — абсолютно все другое, что ни возьми! Откуда же берется это неистребимое желание искать сходное, подобное «домашнему», то есть земному? А это все она, витальная потребность в мировоззрении, которое единственно способно обеспечить человеку психологическую устойчивость. Аналогичное, сходное — значит, знакомое. Знакомое — значит, привычное. А привычное уже не пугает. Если ты не желаешь испытывать страх перед неизвестностью, подобно гераклитовским собакам, тебе непременно надо представить все неизвестное привычным — таким, с которым ты уже научился справляться и ладить. Представим себе ребенка, который выходит из своей детской и начинает осваивать огромный дом — скажем, дворянскую усадьбу. Он с опаской движется по коридору и обследует соседние комнаты. Какие-то из них открыты, какие-то — закрыты, так что туда пока приходится заглядывать только через замочные скважины. Уверенность покидает ребенка с того момента, когда он перешагнул порог детской, где все понятно, привычно и знакомо. Чтобы хотя бы немного вернуть эту уверенность, он изо всех сил убеждает себя заранее, что в неведомом мире нет ничего непривычного и страшного, что он похож на детскую. Это ожидание априорно, оно возникает еще до того, как он заглянет в соседнюю комнату и увидит там что-либо. Именно потому бесхитростный детский рассказ о первом проникновении в доныне запертую библиотеку звучит примерно так: «Там такая же комната, как и у меня, только все другое — и потолок, и двери, и шторы, и люстра. Там нет кроватки, только много книг, большой стол и кресла». Эта детская формула — «Там все так же, как у меня, только совсем другое»— вполне описывает суть любого мировоззрения. И детского, и наивно-дикарского, и самого что ни на есть научного. Все тот же ребенок продолжает говорить устами ученого мужа: «Образно говоря, строение вещества очень напоминает русскую матрешку, которая находится внутри большей и сама содержит ряд все меньших» [19]. При помощи этого наглядного образа до гуманитариев доводится великое физическое знание о том, что вещество состоит из молекул, молекулы — из атомов, атомы — из элементарных частиц, а частицы эти — из кварков. Профессор-физик делает вид, будто использует образ матрешки вынужденно — только для наставления профанов. Что поделаешь, они привыкли мыслить матрешками — сущие дети! Приходится приспосабливаться к их наивным представлениям... Но собственные представления физика — ничуть не лучше. Любая физическая теория — это всего лишь несколько более сложные рассуждения о матрешках. Это такой же плод фантазии, не имеющий прямого отношения к опыту, на который точные науки любят ссылаться, как на свою надежную базу. Тот, кто знаком с философией логического анализа, вполне поймет, о чем речь, когда прочтет следующие рассуждения Б. Рассела о философии, которая соответствовала бы представлениям физики XX века: «Для философа очень важна в теории относительности замена пространства и времени пространством-временем. Обыденный здравый смысл считает, что физический мир состоит из «вещей», которые сохраняются в течение некоторого периода времени и движутся в пространстве. Философия и физика развили понятие «вещь» в понятие «материальная субстанция» и считают, что материальная субстанция состоит из очень малых частиц, существующих вечно. Эйнштейн заменил частицы событиями; но при этом каждое событие, по Эйнштейну, находится к каждому другому событию в некотором отношении, названном «интервалом», который различными способами может быть разложен на временной элемент и элемент пространственный. Выбор между этими различными способами произвольный, и ни один из них теоретически не является предпочтительным. Если даны два события А и В в различных областях, то может оказаться, что соответственно одному соглашению они будут одновременными, соответственно другому — А раньше, чем В, соответственно третьему — В раньше, чем А. Этим различным соглашениям не соответствуют никакие физические факты. Казалось бы, из всего этого следует, что материалом (stuff) физики должны являться события, а не частицы. То, что раньше считали частицей, надо будет рассматривать как ряд событий. Ряд событий, заменяющий частицу, имеет важные физические свойства и потому должен быть нами рассмотрен. Но у данного ряда событий не больше субстанциональности, чем у любого другого ряда событий, который мы можем произвольно выбрать. Таким образом, «материя» является не частью конечного материала мира, но просто удобным способом связывания событий воедино. Квантовая теория усиливает это заключение, но основное ее философское значение состоит в том, что она рассматривает физические явления как возможно прерывные. Она предполагает, что в атоме (интерпретированном в вышеописанном смысле) некоторое время имеет место определенное устойчивое состояние, а затем внезапно оно заменяется другим устойчивым состоянием, которое отличается от первого на конечную величину. Раньше всегда принимали, что движение непрерывно, но, как выяснилось, это был просто предрассудок. Философия на основе квантовой теории, однако, до сих пор развита недостаточно. Мне кажется, что она потребует еще более радикального отхода от традиционного учения о времени и пространстве, чем потребовала теория относительности» [20]. Будем надеяться, что подготовка к кандидатскому экзамену по истории и философии физики, который через три года будут сдавать аспиранты физических факультетов вместо «философии вообще», позволит им легко разобраться в рассуждениях Рассела и даже увлеченно поспорить с ним. Всем остальным, кому эти рассуждения пока представляются китайской грамотой, можно предложить поразмыслить вот о чем. Физика, равно как и другие «опытные» науки, любит клясться в том, что она основана строго на данных экспериментов. Но эксперимент фиксирует только некоторое событие, данное в наблюдении. Один эксперимент фиксирует одно событие, другой — другое, третий — третье. Чтобы увязать знание о них в некое целое, физик придумывает теорию. В этой теории действует некий вымышленный герой — скажем, электрон. Предполагается, что он существует непрерывно — даже тогда, когда не дает о себе знать физику в эксперименте. Между экспериментами он просто прячется, а в экспериментах проявляет себя. Но в промежутке между экспериментами эта невидимая никем частица ничуть не меняется, сохраняя те же свойства. Более того. По умолчанию предполагается, что такие же электроны распространены по всему космосу и похожи друг на друга, как две капли воды. Откуда берутся такие допущения, которые вовсе не следуют из наблюдений? А берутся они из антропоморфных представлений физика, который с самого начала мыслит мир как миро-здание, состоящее из кирпичиков — элементарных частиц. Мир точно такой же, как человеческий дом, только совсем другой. Правда, оказалось, что кирпичики вовсе не так мелки, как представлялось раньше. Они еще мельче, хотя не перестают от этого быть кирпичиками. Конечно, это кирпичики особые: такие же, как у нашего дома, только совсем другие. Они похожи на матрешки, вставленные друг в друга. Впрочем, и на матрешки они не похожи, поскольку матрешки не меняются, не «ведут себя» по-разному, да, собственно говоря, и вообще никак себя не ведут. И друг в друга эти матрешки-нематрешки не превращаются: как-то нет такого, чтобы две разных матрешки вдруг превратились в третью, да еще и состоящую исключительно из света, а не из дерева. И разных зарядов матрешки не имеют. И друг с другом не взаимодействуют. В общем, физика учит, что мир состоит из кирпичиков, которые похожи на матрешки, на матрешек вовсе не похожие. А так — совсем как человеческий дом. Только совсем на дом не похожий. Физик, конечно, не виноват, что ему приходится говорить такие странные вещи. От него ждут только их — и ничего иного. Ждут, потому что верят во всесилие науки. А во всесилие науки верят потому, что оно может обеспечить всем и каждому жизненную уверенность и бодрость духа. Причем верят тем больше, чем меньше к науке причастны, чем меньше знают о ее истинных возможностях, поисках, неудачах и сомнениях. Именно потому самый оптимистический гимн науке был сложен Василием Семи-Булатовым, Войска Донского отставным урядником из дворян: «...Наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. <...> Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь, теперь я Вам скажу, дает себя знать. Дай им бог!» [21] Самая широкая публика ждет от физика, рассуждающего об основах мира, окончательных ответов, которые должны успокоить ее душу, а вовсе не отчета о продолжающихся исследованиях и не списка нерешенных вопросов. Если физик откровенно признается, что так и не ведает, из чего построено миро-здание, его может постигнуть — и уже постигает на наших глазах! — судьба Ивана Сусанина. От наставника жизни, который призван возвестить новое мировоззрение, малодушных сомнений и исканий не ждут. Взялся вести — веди. Не можешь — найдется, кому вести, и без тебя. Они скажут нам, что мир был создан за шесть дней, что «назвал Бог твердь небом» [22], что светила будут «на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений» [23], и станут служить «светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю» [24]. И станет мир наш похожим на дом человеческий, и успокоятся наши души. Если поведать широкой публике о действительном положении дел в физике без прикрас, да еще убедить ее всерьез, что Бертран Рассел прав и что первокирпичики мироздания превратились в поток событий, последствия могут быть самыми ужасающими. Каково жить в доме-потоке, в который нельзя войти дважды? Не впадет ли широкая публика, поверившая Расселу, в гераклитовскую мизантропию? Не предложит ли взрослым перевешать друг друга, а всяких Гомеров и им подобных выдрать розгами? 1. Цит. по: Душенко К.В. Большая книга афоризмов. Изл-2-е, исп. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. С. 527. 2. Чехов А.П. Душечка // Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 10. М.: Наука, 1996. 3. Чехов А.П. Душечка. С. 104. 4. Там же. С. 106. 5. Там же. С. 108. 6. Чехов А.П. Душечка. С. 109-110. 7. Там же. С. 103. 8. Там же. С. 109. 9. Кощеев Л. О гибкости // Наша газета, 15 .08.2003 г. С. 16. 10. Рассел Б. История западной философии. С. 61 —62. 11. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС; Русский Двор, 1997. С. 141. 12. Там же. С. 142. 13. Фр. 91. Дильс-Кранц. Цит. по: Антисери Д. и Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье. СПб.:Пневма, 2001. С. 29. 14. Jaspers К. Psychologie der Weltanschanungen. Munchen, Zurich. Piper, 1985. S. 300. 15. Там же. S. 301. 16. Искандер Ф. В окрестностях Чегема // Искандер Ф. Рассказы. Повесть. Сказка. Диалог. Эссе. Стихи. Екатеринбург: У-Фактория, 1999. С. 17-18. 17. Portmann A. Die Erde als Heimat des Lebens.—In: Portmann A. Biologie und Geist. Zurich, Rhein-Verlag, 1956. S.228 18. Субботин АЛ. Фрэнсис Бэкон. М.: Мысль, 1974. С. 73-74. 19. Гуляев С.А., Жуковский В.М., Комов С.В. Основы естествознания: Учебное пособие для гуманитарных направлений бакалавриата. 2-е изд. Екатеринбург: УрГУ, 1997. С.258 20. Рассел Б. История западной философии. С. 922-923. 21. Чехов А.П. Письмо к ученому соседу // Чехов А.П. Полн. собр. сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука. 1983. Т. 1. С. 11,15. 22. Быт., 1,8 23. Быт., 1,14 24. Быт., 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||