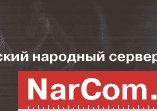|
| |
Почему мы себя
убиваем,
или
Почему мы себя не убиваем
Кто кого спасет?
Гуманитарно продвинутые авторы, которым
сегодня случается писать о проблеме
самоубийства, часто цитируют Камю: основной
вопрос философии — стоит ли жизнь того,
чтобы ее прожить? Однако лично передо мной
этот вопрос во всей его грандиозной наготе
еще лет тридцать назад поставил Лев Толстой:
в чем заключается смысл жизни, который не
уничтожался бы смертью? Иначе говоря, ради
чего нам мучиться, когда жизнь перестает
быть легкой и приятной? Да к может ли она
быть приятной для человека, наделенного
воображением, постоянно напоминающим ему,
чем она непременно закончится. Вцепившись в
куст, человек висит над колодцем, на дне
которого его поджидает разинувший пасть
дракон; несчастный удваивает хватку — и
замечает, как две мыши. черная и белая,
неустанно грызут тот стебель, на котором
держится куст. И тогда... Тогда он начинает
торопливо слизывать сладкий сок, которым
покрыты листья. Вот наша жизнь: мышь черная,
ночь, и мышь белая, день. безостановочно
приближают нас к смерти. а мы. вместо того
чтобы замереть от ужаса, спешим нализаться
— кто чем. Кто удовольствиями, кто властью,
кто почестями, а кто и вином, и, честное
слово, в этом контексте они выглядят отнюдь
не глупее прочих. А те, кто предпочитает не
длить этот кошмар, а по доброй воле
разжимает руки, начинают представляться
вовсе не более слабыми, как нас учили (“Застрелился
— не выдержал борьбы”), а, напротив, более
мудрыми и мужественными.
Эта беспощадная притча из толстовской “Исповеди”,
разумеется, не открыла мне ничего нового, —
Толстой всего лишь показал мне, что
подобные мысли преследуют не меня одного. В
советские годы смерть была просто
вычеркнута из общественного сознания, если
только это не была смерть-самопожертвование:
шансы попасть в печать имел только тот. кто
пал на поле брани, погиб в огне, спасая
колхозный урожай, или получил смертельные
ожоги, вытаскивая ребенка из рукотворного
гейзера лопнувшей тепломагистрали.
Остальные должны были обретать смысл жизни
в строительстве коммунистического завтра,
а если это занятие недостаточно их
захватывало, то — сами виноваты — общество
покидало их один на один со смертью. Их —
это практически всех нас. Советская
пропаганда давным-давно утратила власть
над сердцами — и вместе с тем не позволяла
укрепиться ни одному альтернативному
смыслообразующему институту. Хотя народ
что-то для себя и в марксизме-ленинизме
выискивал, — хорошим людям при всех властях
хочется жить не только ради шкуры.
Я тоже пытался соорудить какой-то плотик
из подворачивающихся под руку обломков
великого кораблекрушения. Единственное
мировоззрение, которое я вынес из
столичного университета, было научное:
ничего не принимать без доказательств, все
субъективные чувства и мнения
перепроверять при помощи измерительных
приборов. Сам великий Эйнштейн учил нас, что
вопроса: “Существует ли такое-то явление?”
— для физика нет, — есть только вопрос: “Как
это явление измерить?” Поэтому спрашивать:
“Какова ценность нашей жизни?” — следует
тоже у этой высшей инстанции — у барометров
и вольтметров. Которые дружно отвечают: “Ноль,
ноль, ноль, ноль, ноль”. Я, конечно, знал, что
разные религии как-то определяют место
смерти в человеческом мире, но ведь
уважающая себя наука несовместима ни с
одной религией. Поскольку любое знакомство
она должна начать с выражения недоверия: “А
почему, собственно, я должна вам верить?
Раскройте основания, на которых вы
базируетесь. Ах, предания, ах, откровения, ах,
внутренняя убежденность. Иначе говоря, все
до одного запретные аргументы — не
поддающиеся объективному, то есть
незаинтересованному, подтверждению”.
Одна из важнейших функций науки
диаметрально противоположна задачам
религии: дело науки возбуждать сомнения —
дело религии их усыплять. Верующие, правда,
частенько говорят ученым: “Если даже мы не
можем доказать, что Бог существует, то и вы
не можете доказать, что он не существует. А
потому мы вправе...” — “Нет, не вправе, —
возражают ученые, желающие быть
последовательными (а последовательность
для ученого есть всего лишь форма честности).
— Если вы не можете доказать существование
чего-то, вы просто не имеете права об этом
высказываться — ни в положительную, ни в
отрицательную сторону”. Даже к собственным
основам наука рано или поздно обращает это
требование: “А на чем основаны сами основы?”
— и делает новый шаг к новой
безосновательности. Принимаемой на время
исключительно в силу ее психологической
убедительности—то есть в точности так,
как принимаются мифы: это же ясно само собой!
“Кто же, по-вашему, создал мир, если не Бог?”
— вопрошают верующие. “А кто, по-вашему,
создал Бога?” — возражают скептики. "Бог
существовал всегда". — “И мир
существовал всегда. Вы всего лишь относите
неизвестность к ничего не означающему
слову”.
И так до бесконечности. Остановиться
здесь можно только волевым усилием: "Довольно,
я не желаю больше слушать". Я думаю,
сегодняшний образованный человек в глубине
души уже сознает, что выбор любой модели
мира — с объективным смыслом его
существования или без оного, с Богом или без
Бога, — что этот выбор в конечном счете
совершает он сам. И если даже ему кажется,
что он всего лишь доверяется какому-то
методу или какой-то высшей инстанции, — все
равно от него зависит, полагаться на них или
не полагаться. И, кстати, даже приятие Бога
вовсе не дает автоматического ответа на
вопрос о смысле твоей собственной,
индивидуальной и неповторимой жизни. То,
что сегодня иногда именуют религиозным
возрождением, чаще всего — психологическое
иждивенчество: в религии охотно принимают
ее утешительную сторону и очень редко
замечают требовательную, — многие ли
готовы подставить ударившему
непострадавшую щеку? А об устрашающей
стороне, кажется, и вовсе забыли, заслуживши
за это хотя бы кратковременную экскурсию в
геенну огненную.
А вот как, например, мы решали бы вопрос о
смысле жизни на месте, скажем, древних
греков с их трагической религией, не
подслащенной даже идеей воздаяния: всем
одна скорбная участь, и героям, и трусам, и
честным, и бесчестным, человек — бессильная
игрушка бессмысленного рока... Как такое
выдержали бы мы, по-прежнему в глубине души
убежденные, что мир должен быть справедлив,
а потому хорошим людям обязан
сопутствовать успех? Уже один наш этот
подсознательный оптимизм (если не классово
правильное, то индивидуально правильное
поведение должно сделать нас счастливыми)
— уже одна только эта нелепая вера, еще ни
разу не подтвержденная опытом человечества,
способна сделать нас несчастными. Потому
что мир и в самом деле трагичен: все самые
дорогие для нас ценности противоречат друг
Другу, — выбирая одну, мы неизбежно
попираем остальные: успех зависит не от нас,
— случай может разрушить самые хитроумно
изобретенные и настойчиво воплощаемые
замыслы и увенчать удачей глупца и труса...
Но трагические греки почему-то не выглядят
несчастнее нас. — возможно, именно потому,
что неудачи и беды они считали нормальным
элементом жизни, а не оскорбительной
несправедливостью, каковыми в глубине души
ощущаем их мы.
Чтобы набраться стойкости перед
жизненными испытаниями, нам прежде всего
необходима прививка трагического —
избавление от рудиментов оптимизма. Правда,
новое время к двум главным компонентам
трагического миросозерцания —
неустранимая противоречивость и
непредсказуемость мира — прибавило третью
— нашу неустранимую ответственность,
понимание того, что всякое воззрение на мир
есть в конечном счете еще и продукт нашей
собственной воли. Нам больше не на кого
сослаться, мы сами назначаем, что считать
добром и что злом, что красотой и что
безобразием, что осмысленностью и что
абсурдом. Поэтому мы должны научиться
держаться ни на чем.
Но по силам ли это человеческим? Можно ли
безоговорочно ценить то, чему ты сам же и
назначил цену? Вопрос, на первый взгляд
далекий от сегодняшних, да и любых других
будней, но — только на первый взгляд.
Попробуйте чем-то утешить человека,
попавшего в нестерпимые, однако, увы, вполне
будничные обстоятельства, — предательство,
болезнь, утрата, унижение, — что может быть
будничное этого! — и вам неизбежно придется
выяснить для себя, какой вы видите роль
страдания в нашем мире. Что оно такое —
испытание, из которого мы должны выйти
духовно возмужавшими, или бессмысленная
пытка, от которой необходимо побыстрее
отделаться любыми обезболивающими
средствами? И каков может быть смысл нашей
жизни, чтобы он оказался в силах перевесить
те муки, которыми была, есть и будет
переполнена жизнь лаже самого
благополучного народа. И, следовательно,
множества индивидов.
Впервые серьезно задумавшись об этом
молодым советским математиком, — то есть
социологически и метафизически полным
дикарем, — я чуть голову не сломал, пока
додумался, что смысл жизни — не звезда и не
химический элемент: его невозможно открыть
в готовом виде, — его создаем мы сами, и
другого судьи, считать его достаточно или
недостаточно обоснованным, помимо нашего
субъективного чувства, нет и быть не может.
Измерительные приборы могут определить,
сколько соли и перца содержит котлета, но
вкусная она или нет, можем сказать только мы.
Эти, простите за выражение, искания я
включил в свою первую повесть “Весы для
добра” и с изумлением узнал, что поиски
смысла жизни — еще худшая антисоветчина,
чем прорехи плановой экономики: жизненного
абсурда, равно как и секса, у нас не
существует.
Повесть удалось опубликовать лишь в
высокую перестройку, но к тому времени я
успел нарыть еще кое-что в том же
направлении. В том же, потому что проблема
смысла жизни и проблема самоубийства — в
сущности, эквивалентны, оба эти вопроса: “Почему
мы себя убиваем?” и “Почему мы себя не
убиваем, что привязывает нас к жизни?” —
отыскивают один и тот же фактор. Ибо отсылка
к инстинкту самосохранения дает только
иллюзию ответа: страх смерти не есть
привязанность к жизни. Инстинкт
самосохранения включается лишь в минуты
реальной опасности, а потому самоубийцу он
может остановить разве что в последний миг,
— тогда как наличие жизненного смысла
почти изгоняет даже фантазирование о
самоуничтожении. К тому же еще большой
вопрос, существует ли привязанность к жизни
вообще, а не к каким-то конкретным ее
проявлениям. Более того, каждому
порядочному человеку очень хорошо известно,
сколь часто мы оказываемся более стойкими в
отстаивании чужих, а не собственных
интересов: потерять свои деньги — это чаще
всего только неприятность, зато потерять
чужие — серьезная драма, вполне способная
поставить честного человека (хотя бы и
сугубого релятивиста) на грань
самоубийства.
Это наблюдение наводит на общий закон:
привязанность к себе делает нас слабыми и
уязвимыми, а сильными нас может сделать
лишь привязанность к чему-то внешнему. И
убеждения — психологическая опора
поступков — прочными в нас бывают лишь те,
которые мы получили извне, и лучше всего —
по наследству. Этические, эстетические
вкусы в основе своей заложены в нас именно
так, и мы начинаем сгибаться перед
несчастьями не просто потому, что в нас
ослабевает наша индивидуальная воля, а
главным образом потому, что в нас слабеет то
самое внешнее влияние — так сказать, не
лично приобретенное, а “чужое” в нас. Со
снижением авторитета советской власти
государственные мобилизующие источники “чужого”
почти новее иссякли, а между тем власть
всячески препятствовала искать их в другом
месте. Хотя была и недостаточно жестокой,
чтобы заглушить самодельные утопии об
автоматически исцеляющей роли демократии и
частной собственности, — в итоге советские
люди попали в реальный мир, словно младенцы
в джунгли. Усвоивши вдобавок, что все
сверхличные ценности — родимые пятна
социализма, а государство—орган насилия
над личностью: уже окруженные самыми
могучими и опасными внегосударственными
стихиями, наиболее упертые ветераны
правозащитного движения и до сих пор следят
лишь за одним врагом — за государством, все
остальные ужасы и безобразия по-прежнему не
на их участке.
Но что правда, то правда — они не мешают
другим изучать все, что вздумается. А при
коммунистах мне отказывались выдать в
Публичной библиотеке классический трактат
Эмиля Дюркгейма “Самоубийство”, требовали
с места работы ходатайство, подписанное "треугольником"
(какое наслаждение забыть это по заслугам
идиотское слово!), — такие вот были
государственные тайны, почти сто лет
открытые всему миру... Поэтому я
конспектировал сверхколлективистского
Дюркгейма с неким внутренним торжеством,
словно это был “Архипелаг ГУЛАГ”: что,
взяли?! Еще не зная его конечного вывода, я
уже наслаждался тысячетонной мощью
дюркгеймовской аргументации, одну за
другой отсекавшей все расхожие гипотезы,
стремящиеся вывести уровень самоубийств из
бросающихся в глаза материальных
обстоятельств: бедность, душевные
заболевания, пьянство... Правда, итоговая
формула Дюркгейма — рост самоубийств
связан с упадком сплоченности общества —
показалась мне не совсем удачной:
слово “сплоченность” в русском языке
ассоциируется с духом взаимопомощи, тогда
как многие "сплоченные” общества просто
ужасают своим презрением к человеку (но что
верно, то верно — о самоубийстве тамошняя
раздавленная личность чаще всего не
помышляет, наводя на мысль, что есть вещи и
пострашнее самоубийства). Мне по-прежнему
казалось, что вместо слов "упадок
сплоченности" точнее употребить
выражение "освобождение личности". Ибо
у меня уже была художественная модель
самоубийства: где-то на краю света рабочий
поселок утопает в грязи, бедности,
воровстве, пьянстве и тому подобных
безобразиях. Некий пророк, благодаря своей
самоотверженности и организаторскому
таланту, преображает этот уголок ада в
уголок рая:
на месте развалюх вырастают чистенькие
домики, исчезают национальная вражда,
воровство, в либеральных школах
причесанные дети пишут оригинальные
сочинения, и — возникают самоубийства.
Убийств-то и прежде было сколько угодно, но
вот убивать себя не додумывался никто.
Причем покончил с собой именно баловень
судьбы — любимый ученик пророка, —
красивый, талантливый, способный сделаться
кем угодно: ученым, общественным деятелем...
Но — зачем? Чтобы служить людям? Служить тем,
кто ничуть не выше его самого — с какой
стати? “Но я ведь служу”, — растерянно
бормочет пророк и слышит в ответ: “Я не верю,
что вы служите этим заурядным людишкам, не
стоящим вашего ногтя. Мне кажется, вы
служите какому-то богу, которого скрыли от
нас. А нам оставили только прописи:
трудитесь, не ссорьтесь, уважайте каждое
мнение и каждый обычай... Я до такой степени
выучился уважать чужое, что перестал
уважать свое. Я завидую своему отцу, который
точно знал, что хорошо и что плохо:
стащить что-то на заводе — значит быть
умным, проломить кому-то башку — значит
быть храбрым, а я знаю, что все относительно:
где-то стыдно грабить, а где-то трудиться,
где-то красивы прямые носы, а где-то
приплюснутые...”
И пророк с ужасом понимает, что дал людям
комфорт, достаток, вежливость, но разбил
стереотип их жизни: внес сомнения туда, где
прежде все делалось автоматически. А
человек силен и спокоен только тогда, когда
остается автоматом, управляемым извне,
когда по любому вопросу у него есть
единственно правильное мнение. А там, где
допускаются два мнения, завтра их будет
четыре, послезавтра восемь, — они начнут
делиться, как раковые клетки... Всеобщее
несогласие, то есть всеобщее одиночество, и
неуверенность во всем — вот итог свободы и
терпимости. Свобода мысли — это рак,
оригинально мыслящего человека должно
истреблять неизмеримо более
неукоснительно, чем скромного убийцу, не
покушающегося на общепринятые мнения. Ибо
ценность этих мнений только в их
общепринятости и заключается, — Великий
инквизитор в легенде Достоевского не зря
указывал на жажду совместного
преклонения как на главную жажду
человечества.
Правда, этой жаждой с тех пор столько
пользовались фашиствуюшие пророки всех
цветов, что породили либеральную реакцию,
стремящуюся, наоборот, изгнать из жизни все
объединяюще-сверхличное, — так и борются
эти два упростительства: “в мире должны
быть только мои святыни” — “в мире вообще
не должно быть святынь”. В серьезном, то
есть трагическом, споре всегда правы все:
наличие святынь ведет к их столкновениям и
массовым убийствам, отсутствие святынь — к
самоубийствам и убийствам (пока что) по
мелочи. Я совершенно не склонен к мистике, —
святыней я называю любую ценность, в
которой мы не в силах усомниться, несмотря
на самые убедительные доводы разума. Для
кого-то святыней может быть наука, для кого-то
нация, для кого-то чужая собственность, для
кого-то чужая жизнь, но всегда — что-то
внешнее, не лично тебе принадлежащее. Устав
держаться за край пропасти, мы чувствуем
себя вправе разжать руки, - нам мешает страх,
а не запретность предательской капитуляции.
Но когда мы держим над бездной тех, кого
любим... И даже не очень любим... Мы часто даже
не догадываемся, что те, кого мы спасаем, на
самом деле спасают нас. Возможно, мы
боролись бы за жизнь вдесятеро более
мужественно, если бы не считали свою жизнь
нашим личным достоянием. Гуманистическая
формула “Все должно служить человеку” в
затянувшихся мучительных ситуациях
обрекает нас на бессилие и отчаяние:
человек не может ощущать святыней самого
себя.
Этим я вовсе не хочу сказать, что, умирая
от голода, мы более охотно отдаем последний
кусок другому. Более того, охваченный
могучей эгоистической страстью, человек
чаще всего бывает очень далек от
самоубийства, — пока есть надежда эту
страсть насытить. Но нот когда надежда
растаяла, когда подступает апатия, — вот
тогда-то служение какой-то святыне —
ребенку, супругу, делу, стране...
Как сохранить преданность собственным
святыням и одновременно избежать
кровопролитного столкновения святынь —
сегодня это проблема проблем. Выход, по-видимому,
в том, чтобы понять, что но большому счету
все святыни не только соперничают, но и
дополняют друг друга, служа какому-то более
высокому целому. Что это за целое — тоже
вопрос вопросов. Довольно очевидно, что и
его нельзя открыть в готовом виде, а можно
только создать — частью интеллектуальными,
а частью (если не главным образом) —
художественными усилиями: только они
способны придать умственной конструкции
чарующее обаяние. Г.Померанц вообще склонен
воспринимать образ целого больше из
метафор поэтов и пророков, чем из
рациональных построений ученых, — хотя для
людей научного склада это вряд ли будет до
конца убедительно. Но во всяком случае ясно,
что чарующего мифа (который только и может
овладеть нашими сердцами) крайне не хватает
дюркгеймовской концепции. Для Дюркгейма
целое — это - коллектив, общество. Но какое
именно? Семья, профессиональная гильдия,
нация, человечество? Дюркгейм как будто не
замечал противоречивости требовании,
предъявляемых всеми этими коллективами.
Более того, включенность в
профессиональную корпорацию Дюркгейм
считал самым верным шагом к включенности в
общество, никак не упоминая о том, что
эгоистические интересы корпораций
временами угрожают самому существованию
общественного целого. В конфликте между
национальным и общечеловеческим он также
безоговорочно становился на сторону
национального, считая только его реальным
общественным организмом, а не
умозрительной конструкцией. Словом,
Дюркгейм, похоже, был склонен полностью
игнорировать трагически противоречивый
характер общественных потребностей.
Дюркгейм доказал очень убедительно: наш
эгоизм желает, чтобы все служило нам, — но
наполнить смыслом чащу жизнь способно
только то, чему служим мы. И служить, он
считал, можно только обществу, ибо выше
общества нет ничего: даже Бог есть всего
лишь символический образ коллектива.
Но что значит “служить обществу”?
Участвовать в системе разделения
общественного труда, отвечал Дюркгейм, Но
участвует ли в этой системе всеми
осмеиваемый художник, стоимость картин
которого век спустя будет равна бюджету
небольшого государства? Поэт, которым
искренне восхищается лишь сотня-другая
знатоков? Ученый, труды которого никогда не
будут иметь практического приложения?
Путешественник, который переносит
невероятные тяготы и опасности, а часто и
жертвует жизнью, чтобы добраться до какой-то
точки земного шара, куда ничего не стоило бы
долететь на вертолете, если бы только там
кто-то что-то забыл? И более того — служит ли
обществу поэт или художник, который так
никогда и не находит признания? Не
правильнее ли всего считать, что обществу
служит всякий, кто увеличивает в нас
восхищение миром — и прежде всего
восхищение человеком: да, такому существу
стоит жить! И стоит служить продолжению его
рода.
Поэтому человечеству, утратившему
стереотип косности, для выживания
необходимо эстетическое чувство — дар
восхищаться бесполезным, а то и опасным. Да,
эстетическое чувство безответственно, для
него, по выражению Шиллера, более важна сила,
чем ее направленность: в драме мы готовы
болеть за бандита, если только он окажет
мужество и находчивость. Для
законопослушности это, бесспорно, вредно.
Но ведь, прежде чем иметь желание
покориться закону, человек должен иметь
желание просто жить. Один мой друг, в конце
девяностого зашедши в магазин,
почувствовал восторг от пустоты витрин:
наконец-то и мы оказались участниками
великих событий! Блестящая иллюстрация
гениальной формулы Ницше: все в мире
оправдано в качестве эстетического
феномена. Что говорить — внеморальный
эстетизм опасен: что уму представляется
злом, то сердцу сплошь и рядом — красотой,
эстет способен поджечь Рим, чтобы
полюбоваться морем огня. Но часто лишь
эстетизм может нас возвысить над нашими
шкурными нуждами. А когда с их
удовлетворением наступает полная
беспросветность, он может даже спасти нам
жизнь.
В последнее время я даже склоняюсь к тому,
что человеку — если под ним понимать
человечество в целом — необходимо ощущать
себя и частью мирового целого. Поэтому
обществу служат даже те блаженные, которые
тяготятся людьми, а сливаются душой с
животными, деревьями, морем, небом... Служат
чудаки, находящие смысл существования на
каких-то странных путях...
Кончаю — страшно перечесть... Отыскивая
каких-то опор для несчастных, готовых вот-вот
разжать руки, невольно добираешься до
предметов самых выспренних. Чтобы человек
заболел гриппом, необходимы два условия:
попадание микроба в организм и —
ослабление иммунной системы. Чтобы человек
покончил с собой, с ним должно случиться
несчастье и — ослабеть сопротивляющаяся
сила духа. Первый фактор все видят очень
ясно, о втором же чаше всего не задумываются.
А между тем он-то и есть главный — по
крайней мере, статистически выявляется
только он: в годы войн, когда количество бед
неимоверно возрастает, уровень самоубийств
обычно резко снижается. Трагический облик
мира наконец-то начинает казаться нормой,
возникает Общая Беда, не позволяющая
чересчур зацикливаться на собственных...
Как выражается тот же Г.Померанц, бывает
скорая помощь и медленная помощь. Скорая
помощь предлагает человеку решить
конкретную сиюминутную проблему, —
медленная наделяет его силой духа,
благодаря которой он справляется с
проблемой сам (а то и вообще не замечает ее).
Работая с суицидентами, я убедился, что их
несчастья хотя и тяжелы, но не более ужасны,
чем несчастья тысяч и тысяч людей, не
помышляющих всерьез о добровольной гибели,
— потому что они постоянно пребывают под
действием какой-то медленной помощи. Чаще
всего они кого-то держат сами.
Личными привязанностями общество не
может всех обеспечить. Зато какое-то Общее
Дело у него есть всегда. Только временами
оно почему-то впадает в мазохистскую сласть,
осмеивая самую мысль о необходимости чего-то
сверхличного — то есть именно того,
благодаря чему оно существует. Ведь все
должно служить человеку — наука,
государство, искусство... Но напирать
исключительно на права человека означает
оставлять его беззащитным перед
бесчисленными бедствиями реального мира,
ибо силой переносить несчастья его
наполняют только обязанности. “Государство
должно служить человеку". — "Нет,
человек должен служить государству"...
Вечные наши детские дилеммы: 'Кто главней —
папа или мама?" Сам этот вопрос — первый
шаг к распаду семьи. Полноценная семья
невозможна как без папы. так и без мамы;
современное государство невозможно без
развитой личности точно так же, как
развитая личность невозможна без разумно
организованного государства. И служить они
должны не друг другу, а общему делу.
При всей туманности этой формулировки и
хирург, и учитель, и солдат, и президент, и
поэт, и ученый в глубине души все-таки более
или менее чувствуют, в чем заключается их
частная миссия в общем деле: лучшие из них
вполне преданы своим частным святыням.
Обрести устойчивый смысл своей
деятельности — неколебимую внутреннюю
уверенность в ее ценности — им часто мешает
только смущение, что их святыня отнюдь не
купается во всеобщем почитании. Однако
всеобщее совместное преклонение, которое
мечтал даровать миру Великий инквизитор, не
только невозможно, но и не нужно. Солдат не
должен чтить в точности то же, что врач,
крестьянин — то же, что учитель,
промышленник — то же, что эколог, —
достаточно, чтобы они понимали, что их
частные святыни необходимы целому — и
вместе с тем сами могут существовать, не
вырождаясь в бессмыслицу, только в
сотрудничестве с остальными святынями-соперницами.
Это было бы важной прививкой от всех видов
упростительского утопизма — представление
о том, что все самое дорогое для нас может
явиться в мир только в качестве элемента
какой-то сложнейшей системы, в которой
очень многое будет нам безразлично или даже
враждебно. Но если хочешь сохранить свою
часть — береги и чужие. Противоречия между
частями общественного целого не
превосходят противоречий между мозгом и
желудком.
“Единство многих дополняющих друг друга
соперничающих святынь” — мне кажется,
воспринять аккорд вместо сольной партии по
силам любому нормальному человеку. Вам
кажется, что все это далеко от его реальных
драм? Что ж, возможно, вы и без того нашли бы
чем поддержать учителя или врача, которым
"государство" нищей зарплатой как
будто хочет сказать: “Вы не нужны”, —
учитель, мол, служит людям, народу, обществу,
а не государству. Но чем бы вы поддержали
поэта, чьи стихи действительно не читает “народ”,
математика, чьи формулы и в самом деле
практически не нужны “обществу”? Вам бы
пришлось или призвать их наплевать и на “народ”,
и на “общество” (позиция мучительная,
требующая постоянного недоброго
напряжения), или признать, что “общество”
(“народ”) — штука неизмеримо более сложная,
чем просто большинство сегодняшнего
населения: в “общественные нужды” входят и
самые причудливые стремления не только
сегодняшних, вчерашних, а также и будущих
оригинальных личностей, осуществляющих
далеко не до конца понятные нам функции
поиска неизвестно чего. Такие личности
почти всегда бывают чужды, а то и неприятны
большинству современников, но иногда
именно они впоследствии становятся
символическими представителями своих
народов, создавая единство из своего
отщепенчества, творя свет из своего мрака...
Невыносимый Байрон, трудновыносимый Пушкин...
Но деятельность искателей должна быть
оправдана и в тех случаях, когда она не
увенчивается столь блестящим успехом. Тот
не искатель, чья победа заранее
гарантирована. Да и вообще, трагическое
миросозерцание не допускает оценивания
личности ее успехом — это один из самых
опасных в суицидальном отношении
рудиментов примитивной веры в конечную
справедливость мира.
Мне кажется, формула “Человек должен
служить обществу” и в либеральном мире так
же справедлива, как во времена Спарты и
сурового республиканского Рима, — при
условии радикального обновления понятий “служение”
и “общество”. Смысл жизни, понимаемый как
четко очерченная и жестко предписанная
моноцель, одна на всех, и в самом деле более
опасен, чем жизнь, вообще отказавшаяся от
какого бы то ни было общего смысла. Но зачем
же выбирать между двумя мрачными
нелепостями?
Я полагаю, о смысле жизни как открытой,
свободной от жесткой регламентации и даже
от точного описания противоречивой системе
дополняющих друг друга смыслов сегодня
можно говорить уже и в старших классах
более или менее средней школы, — лишь бы
учитель был — совсем не обязательно
пророком, а просто думающим человеком,
нуждающимся в оправдании хотя бы
собственного бытия.
А почему бы попутно не обсудить и какие-то
элементарные сведения из суицидологии —
хотя бы и не произнося этого
антипедагогического слова (хотя вряд ли кто-нибудь
из старшеклассников впервые услышит слово
“самоубийство” именно в школе). Разумеется,
при этом надо помнить, что бестактное
размусоливание этой темы способно кого-то
побудить и к реальной попытке — напыщенное
пустословие, которым был окружен
издевательски затянувшийся телерепортаж о
недавнем самоубийстве трех школьниц, в
одном только Петербурге вызвало несколько
суицидальных попыток. Однако если раскрыть
подросткам механизм подражания, вызывающий
подобные “волны”, мне кажется, они
потеряют три четверти своей романтической
привлекательности. Даже сама
дюркгеймовская классификация,
использующая выражения типа “эгоистическое
самоубийство", на мой взгляд, способна
деромантизировать это страшное явление:
надо знать, сколь часто в предсмертных
записках самоубийц используются
поэтические штампы из фольклора (“лебедь и
лебедушка”) и даже эстрады (“На тебе
сошелся клином белый свет”).
Ну, а открытие Дюркгейма о спасительной
роли служения, объединяющего дела — это
открытие вообще следует тиражировать
вплоть до отрывных календарей. Попутно
напоминая, что стоящая перед Россией
историческая задача либерализации,
вестернизации по своей трудности и
опасности вполне тянет на роль общего дела
ничуть не менее среднемасштабной войны.
Те изменения в миросозерцании, о которых я
пишу, являют собой, безусловно, очень
медленную помощь. Но в конечном счете едва
ли не самую верную.
Боюсь даже, единственно верную.
|