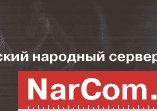|
| |
Почему мы себя
убиваем,
или
Почему мы себя не убиваем
Десять лет
спустя
И снова спешу оправдаться: я далеко не
сразу перешел от нападения к защите — от
стремления извести невзгоды, сталкивающие
людей в пропасть, к поиску средств эти
невзгоды вынести. Только под давлением
фактов и с большой неохотой я признал, что
мир неустранимо трагичен, а потому
уничтожить все поводы отказа от жизни можно
лишь вместе с самой жизнью — вместе с
обновлением, состязательностью, свободой.
Ведь так естественно, что папа-конструктор
и мама-доцент хотят видеть и своего сына кем-то
в этом же роде. Когда этот бедняга лезет вон
из кожи и сам себя презирает за тройки — это
тоже вполне нормально: в преданности одним
и тем же ценностям и заключается культурная
наследственность. Вот если бы звание
доцента было еще и социально наследуемым,
как дворянство... Когда же фабричная мама
хочет, наоборот, вырвать дочку из своей
среды, а дочке и тут хорошо, снова
срабатывает культурная наследственность: и
без верхнего образования люди живут.
Одни хотят удержать достигнутое, другие
приобрести новое — автоматически не
достигается ничего... Будь наше общество
кастовым, чтобы каждый от рождения не
помышлял быть кем-то иным, чем папа с мамой (отец
был бондарь — и ты будешь бондарь, отец
офицер — и ты офицер), огромная масса
конфликтов отпала бы сама собой.
Когда русская девушка без памяти влюблена
в лицо кавказской национальности, да еще с
судимостью (он такой горячий!), папа с мамой,
запирают ее на замок — это снова конфликт
прав. Если бы наше сознание вообще
исключало межнациональные браки, если бы
дети, как встарь, не помышляли выйти из
родительской воли, эта девушка осталась бы
жива. Как и несчастный папаша, никак не
могший смириться с тем, что не имеет у своих
детей столь же непререкаемого авторитета,
как в свое время его отец. Когда все
обладают одинаковыми правами, эти права не
могут не сталкиваться ежеминутно: ну-ка,
провозгласите свободу движения
автомобилей на городских улицах! Конфликты
и неудачи — неизбежное следствие самых
священных прав и свобод индивида: каждый
вправе претендовать на любое место в
социальной иерархии, каждый свободен
строить свою жизнь по собственному
разумению...
Но если свободный состязательный мир
невозможен без поражений, то людям всегда
будут необходимы средства переносить
неудачи: состязание невозможно без
проигравших. Вот так, шаг за шагом, мне
приходилось отступать от скорой помощи к
медленной. Хотя начинал я с самой что ни на
есть конкретики.
В доэйфорической фазе перестройки —
гиперскептической, у нас же все крайности:
Горбачев работает на КГБ, чтобы мы осмелели
и повысовывались из своих норок, — так вот,
в те без иронии исторические дни один
деловитый энтузиаст с телевидения (в
недалеком будущем депутат) собрал группу
молодых публицистов под сорок и предложил (нам)
экстренно осветить новые веяния: вот завтра,
например, народ ринется в банки за
кредитами, а послезавтра мы уже сможем
выпить на улице стакан сбитня, получить
дачу “под ключ”,.. В ту пору, случалось,
самые практичные люди оказывались во
власти идеалистической веры в чудотворное
действие личной выгоды, робкое замечание,
что у человека существуют какие-то еще
мотивы, кроме корыстных, смотрелось родимым
пятном социализма. Когда мне случилось
упомянуть, что Лев Толстой написал "Анну
Каренину” не только ради денег (он вложил
туда в двадцать раз больше, чем мог бы
заметить читатель), в прогрессивной
питерской газете на меня посмотрели как на
чудака: я что, за коммунистов?.. Либеральная
идея явилась к нам в самом примитивном, а
потому (что еще хуже) нежизнеспособном —
шкурном — варианте: каждый тащи к себе, а от
этого и всем будет хорошо. Хотя
установление либеральных порядков требует
определенной жертвенности не менее любого
другого общего дела. А уж до чего эта убогая
утопия вредоносна в психотерапевтическом
отношении!..
Я вызвался освещать такую новинку, как
кабинет анонимной психологической помощи.
Помню, вглядывался в лица на эскалаторе и
думал: слезы не встретила неприличной... А
между тем почти каждый нуждается в утешении...
Я был настолько наивен, что верил, будто
человека можно утешить: сказать ему какие-то
добрые слова, после которых... Но, разумеется,
такие слова могут быть рождены только
искренним сочувствием... Принять чужую боль
как свою,..
Даже это потребовало времени и опыта —
понять, что если ты примешь на себя боль
отчаявшегося человека, она ослепит тебя так
же, как ослепила его. Притом, что сочувствие
твое ему нужно как собаке пятая нога, а
нужна ему надежда, какой-то проблеск на
беспросветном горизонте. Твое сострадание
имеет лишь то значение, что повышает
доверие к твоим словам, не более. Ибо все
положительные эмоции суть разновидности
надежды, равно как отрицательные — страха.
Отрицательный прогноз на будущее дает
отрицательную эмоцию, положительный —
положительную. И только если ты сумеешь
заменить хотя бы часть отрицательных
прогнозов несчастного положительными... И
убедить, что из-за них стоит терпеть
отрицательные...
Ощущение жизненного смысла — эмоция не
легковесной радости, уносимой первым же
холодным ветерком, а эмоция прочной
уверенности, лишь вздрагивающей под
ударами судьбы, среди лишений
нашептывающей человеку, что самое, может
быть, главное у него все-таки остается.
Смысл жизни — это такая потребность-доминанта,
шансы на удовлетворение которой
сохраняются даже тогда, когда улетучились
все надежды насытить массу других
потребностей, ради которых, по мнению людей
заурядных, только и стоит жить:
как говорил Ницше, тот, у кого есть Зачем
жить, выдержит почти любое Как. И
потребность служить чему-то внешнему и
долговечному, как правило, находит
неизмеримо больше возможностей, чем
страстная любовь к самому себе. Упрощенно
говоря, наслаждаться жизнью можно, пожалуй,
и не имея жизненного смысла, но переносить
несчастья без него практически невозможно.
Создать у отчаявшегося человека новую
потребность практически тоже не в наших
силах. Мы можем только напомнить ему о ней,
если она у него уже есть, но затеряна под
наслоениями обид и потерь. Но напомнить мы
можем лишь о его реально существующей
потребности, а не о той, которая, по нашему
мнению, должна у него быть. Твоя же манера
обращения способна разве что чуточку-чуточку
изменить образ мира, в котором он живет — в
духе “есть все-таки на свете и добрые люди”.
Однако — будет очень неосмотрительно
внушить ему ложную надежду, будто ты готов
сделаться одним из постоянных элементов
его микромира. Если, скажем, в тебя
влюбляются — это не победа твоя, а
поражение.
Но до поражений в те минуты мне было еще
очень далеко. А в общем-то, именно они
прибавляют нам ума.
Очень заурядная маленькая приемная, две
медсестры с карточками, хотя имя пациент
может и не называть. Та, что постарше,
сообщила, что клиентура у них в основном
образованная — у рабочих нет времени по
психологам таскаться. Это возбудило во мне
классовый протест: ну, конечно, у них
времени на домино да на пивные очереди едва
хватает...
В тесном кабинетике тучный протодьякон в
белом халате разъяснил мне, что лучше всех
защищены от несчастий душевно щедрые люди,
и многозначительно добавил, что кабинет
открыт не ради баловства, а ради
профилактики самоубийств. Только это не для
печати, ибо социальных причин для суицида у
нас нет. Хотя в Москве открыт специальный
суицидологический центр Айны Григорьевны
Амбрумовой, тогда я впервые услышал это
легендарное имя. Ее научно-практический
центр издает специальные сборники но
актуальным проблемам суицидологии,
крошечным, правда, тиражом — экземпляров,
этак, с тысячу.
В Публичке эти сборники мне выдали уже без
прекословии. Сугубо официальной наружности
книжки были наполнены интересными
сведениями и, насколько я мог судить,
высокопрофессиональными исследованиями. Я
вчитывался и конспектировал с прежним
чувством, что касаюсь самых глубоких тайн
человеческой природы. И чем больше я
узнавал, тем больше усугублял какой-то
новый аспект собственного одиночества. Ибо
одиночество есть привязанность — к стране,
к человеку, к истине, — но такая
привязанность, которую никто не разделяет.
Ты, скажем, месяцами изучаешь какую-то
проблему, обнаруживаешь в ней все новые
глубины, — а рядом с тобой и без всякого
изучения все уже все знают: кончают с собой
только сумасшедшие, только пьяницы, только
трусы, только храбрецы... Когда плюрализм —
священное право каждого думать, что
вздумается, — воцарится в мире
окончательно, на одиночество будут
обречены все. Если только окончательно не
утратят всякую нужду в согласии,
психологическую потребность в институтах и
методах разрешения споров. И тогда мир
превратится в царство нагой силы: хотя
идейные конфликты исчезнут, конфликты
интересов все равно останутся и будут каким-то
образом разрешаться, только ни один метод
их разрешения не будет пользоваться
уважением — оснований уважать закон
имеется не больше. чем оснований уважать
научную логику или традицию. Великий Ленин
провозгласил истиной то, что полезно
передовому классу, а другой великий
упроститель — Гитлер — пошел еще дальше:
истины не существует вообще, ни в научном,
ни в нравственном смысле, — миром правит
воля. Но не воля самого сильного класса, а
воля самого сильного индивида. То есть того,
кто сумеет навязать свою волю другим.
Отказ от понятия истины сулит... Впрочем, я
и без того зашел слишком далеко (хотя и не
так далеко, как вам, может быть, кажется). Но
что уважение к знанию среди безразличия к
нему (“Истина есть то, что я и так знаю”)
портит характер — это точно. Когда наконец
появилась возможность высказываться о
проблеме самоубийства печатно, слова сами
собой складывались в колкости. Тем более
что именно в те годы, когда ситуация с
самоубийствами резко улучшилась, наши так
называемые левые начали спекулировать на
этой беде, чтобы скомпрометировать
демократические новации. Боюсь, именно
примитивность коммунистической пропаганды
в огромной степени и породила
примитивность либеральной реакции. Если
уподобить общество курице, а формируемую им
личность — яйцу, то коммунисты и либералы
на вопрос, что важнее — яйцо или курица,
твердо и однозначно отвечали: “Курица,
курица, курица!..” —“Яйцо, яйцо, яйцо!.”
Разве нам по силам удержать в уме сразу
две соперничающие и дополняющие друг друга
ценности! Дюркгейм и здесь оказался
непрочитанным. Хотя еще лет сто назад в
другом своем трактате “О разделении
общественного труда” он камня на камне не
оставил от либеральной утопии: свободное
следование своим экономическим интересам
не может привести к согласию, ибо слишком уж
это переменчивая стихия, интересы,—
сегодня мне выгодно заключить с вами союз, а
завтра выгодно порвать, сегодня выгодно
соблюсти закон, а завтра выгодно нарушить.
Дюркгейм показал, что с ростом
индивидуальных свобод в цивилизованном
мире нарастало и вмешательство общества в
личные отношения — отношения кредитора и
должника, нанимателя и работника, мужа и
жены, отца и сына. Но эффективность
общественных установлении, доказывал
Дюркгейм, невозможна без уважения к
обществу, — даже власть тирана бывает
терпима только до тех пор, пока в ней
ощущают лишь концентрацию власти социума.
Даже Бог, по мнению Дюркгейма, не более чем
символ коллектива. По этой причине
рационалист Дюркгейм предлагал
обожествлять коллектив напрямую, минуя
фантастических посредников. Но в этом
пункте позволю себе не согласиться с
классиком. Человека, на мой взгляд, отличает
от животного не столько умение
анализировать, сколько умение
фантазировать — и относиться к плодам
своей фантазии даже более серьезно, чем к
реальности. Реальные интересы неизбежно
разъединяют людей, — объединить их может
только какой-то чарующий фантом, какая-то
система коллективных иллюзий,
неосознаваемых условностей, именуемая
культурой данного социума. Собственно, в
культуре и таятся источники той самой
медленной помощи. И попробуйте с трех
попыток угадать, как будут вести себя в
несчастье представители культуры, в
которой состязаются в мужестве, и
представители культуры, в которой
состязаются в благополучии. Культуры, в
которой смотрят на жизнь как на испытание,
которое нужно вынести с честью, и культуры,
в которой считают, что человек создан для
счастья, как птица для полета, не замечая,
что полет птицы — напряженный труд,
исполненный забот и опасностей.
Что-то в этом роде брезжило во мне уже
тогда, — когда я еще в глаза не видел ни
одного реального человека, покушавшегося
на свою жизнь. Интересно сегодня перечитать
мои тогдашние размышления.
|