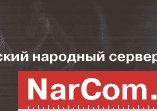|
| |
Почему мы себя
убиваем,
или
Почему мы себя не убиваем
Добровольческое
движение
Впервые заинтересовавшись проблемой
суицида, люди обычно обращаются прежде
всего к методам конкретной, “скорой, помощи.
Так было и со мной. Начитавшись доступной
литературы и наговорившись с людьми, еще
более начитавшимися, я счел наиболее
эффективной ту модель поддержки
потенциальных суицидентов (в том числе “попыточников”,
как их иногда называют профессионалы),
которая, во-первых, хотя бы внешне отделяет
психологическую помощь от психиатрии (“дурка”
может наложить на человека некие стигматы в
глазах его непросвещенных знакомых и даже в
собственных его глазах), а во-вторых, в
значительной части осуществляется не
профессиональными психиатрами, а
волонтерами, способными отнестись к
несчастному более “по-человечески”, не
переходя немедленно к диагнозам и
таблеткам, к чему, считается, склонны
психиатры. (Один глубокий опрос,
проведенный еще в Ленинграде, показал, что
психиатры и в самом деле значительно чаще
считают самоубийство результатом
душевного заболевания, чем “просто люди”.)
Последним толчком для меня послужил
откровенный разговор со знакомым студентом,
признавшимся мне, что мечтает о такого рода
работе: он столько перестрадал и передумал,
что мог бы чем-то поделиться и с другими. И я
решил создать в Ленинграде волонтерскую
службу психологической помощи людям,
оказавшимся у последней черты. Упомянутый
молодой человек в первые месяцы был моим
неотступным секретарем. Но потом понемногу
отдалился. Что довольно характерно:
организатор подобной службы должен быть
готов к тому, что какие-то люди будут
появляться, приносить заметную пользу, а
через некоторое время исчезать, — очень
немногие согласятся сопровождать вас до
бесконечности. В том числе — вы сами.
На этом пути я повидал столько
очаровательных и ошарашивающих личностей и
побывал во стольких трагических и дурацких
ситуациях, что вполне мог бы написать роман
в маркесовском роде. Однако, наступив на
горло собственной песне, ограничусь только
теми аспектами своего опыта, из которых
можно извлечь практическую пользу.
Первое: затеяв что-то бескорыстно-благородное,
в соприкосновениях с людьми, отвечающими за
нечто реальное, следует демонстрировать
максимальную приземленность, никогда не
повышать голос и ссылаться только на
прецеденты Запада и цифры: “Ущерб от одной
попытки самоубийства составляет столько-то
долларов по курсу Центробанка на такое-то
число”. Если вы человек интеллигентный, то
есть никогда ни за что не отвечавший,
исключая судьбу человечества, вы должны
войти в шкуру людей, для которых любой
благородный порыв влечет за собой
служебные неприятности. — в противном
случае всякий чиновник уже через пять минут
станет вашим врагом. Что абсолютно
противопоказано вашему делу. Впрочем, если
вы подлинный интеллигент, дело вас волнует
ровно в той мере, в какой оно украшает ваш
облик, а крах “в этой стране” красивее
победы.
Начало пути мы проходили вместе с весьма
известным специалистом по всем социальным
аномалиям Яковом Ильичом Гилинским — ему
хотелось поддержать гораздо более широкие
процессы самоорганизации, установить связь
между нарождающимися благотворительными
обществами разного рода, а также учредить
на Руси институт социальных работников (в
чем, я считаю, он преуспел довольно прилично,
если учесть неуправляемость социальной
материи). То было золотое времечко —
поднявшийся народ сметал партократию и
выдвигал на хозяйственные посты ученых,
литераторов, лиц без определенных занятий,
и было необыкновенно приятно встретить в
высоком кабинете Мариинского дворца
милейшего старого знакомого, кандидата
философских наук, потрясенно рассказавшего
нам, что к нему только что приходила
делегация учителей с требованием какой-то
надбавки — и разговаривала с ним как с
врагом, не желая входить ни в какие резоны,
— словно он был обычным начальником-партократом!
Для меня эта встреча тоже была поучительной:
мое дело представлялось мне настолько
бесспорным п рассуждении его высокой
необходимости, что когда я обнаружил в
соперниках моих самоубийц не только алчных
торгашей и бессердечных чиновников, но
также сотни тысяч пенсионеров, инвалидов,
слепых, глухих, которых в коммунальной
квартире вынуждают платить за общий
телефон... И в конце концов уже “наш”
начальник тоже чуть не со слезами сообщил
нам, что ни помещений для нас, ни ставок у
него нет.
Зато с главным психотерапевтом
Ленинграда Оксаной Евгеньевной Кашкаровой,
заведовавшей клиникой неврозов, одно
отделение которой как раз и было отдано
будущим моим благополучателям,
сотрудничество наладилось довольно быстро.
Наметанным глазом убедившись, что я не
совсем чокнутый (опасение в подобных
случаях, как я вскоре тоже убедился, весьма
небезосновательное), она обещала подумать и,
подумав, пришла к выводу, что волонтеры
могут быть полезны в фазе “реабилитации”
— после выписки, то есть после возвращения
суицидента в ту самую реальность, которая и
завела его в больницу. Более того. Оксана
Евгеньевна предоставила помещение в своей
клинике для первой встречи отобранных нами
волонтеров.
“Отобранных” — слишком громко сказано: в
тот период мы не отфильтровывали
практически никого. Я опубликовал в
нескольких газетах небольшую заметку с
указанием контактного телефона и адреса (адрес
и в определенные часы телефон нам
предоставило Общество милосердия —
анекдотические подробности опускаю; на
телефоне сидел мой безотказный в ту пору
юный друг). На встречу явилось около ста
человек, в основном, разумеется, женщины, в
основном заметно старше тридцати. Я обещал
избегать анекдотов, но не могу вовсе
умолчать о черноокой красавице, которая
отчетно-выборным комсомольским голосом
прочла нам доклад о том, до какой степени
она не переносит чужих страданий;
запомнилась и пышная плачуще-встревоженная
шатенка, страстно призвавшая остерегаться
нашествия экстрасенсов, свивших гнездо во
Дворце культуры пищевиков, — она едва
удержала их вот такими и такими пассами,
источавшими положительную “энергию”. В
подтверждение ее слов что-то долго клекотал
приведенный кем-то афганский прорицатель,
пару дней назад любезно явленный народу
Ленинградским телевидением.
Однако несколько минут перепало и мне.
Тогда я еще далеко не осознал, что передо
мной стоят две противоположные задачи:
одних следовало воодушевлять — других
максимально охлаждать, ибо и закваской, и
бичом почти всех общественных движений
являются психопаты. Они заранее горят,
заранее все знают, жаждут немедленного
действия, пламенно возмущаются всеми, кто
не разделяет их чувств... Мне еще не был
известен этот универсальный закон, но я
довольно скоро почуял, что именно тех, кто
абсолютно убежден в своем даре возрождать в
людях веру, надежду и любовь, — именно их-то
и нельзя подпускать к людям без утроенных
мер предосторожности.
Одной из таких предосторожностей
оказался цикл подготовительных лекций, на
которые я приглашал социологов, психиатров,
психологов, — зал любезно предоставил
Музей Достоевского. Случая, чтобы кто-то
отказался выступить, не помню. В Ленинграде
тоже была сильная суицидологическая школа
— Валентина Карловна Мягер, например, и
сама крупный ученый (и прекрасный человек),
и учеников вырастила вполне достойных.
Некоторые принципы экстренной
психологической помощи поражали
сочетанием предельной простоты и глубины,
— каждый, я считаю, должен знать это даже
для собственной безопасности: требуется
прежде всего ослабить чувство неотложности,
ощущение, что необходимо что-то предпринять
вот сию секунду, немедленно — иначе все
пропало. Но чаще всего серьезные ситуации и
созревают очень долго, и рассосаться могут
далеко не за один день, а потому никакое
решение не может разом спасти — разом можно
только погубить. Если внутренне мечущийся
человек поймет, что и завтра не поздно
повеситься или подать в суд, и послезавтра,
— этим он сделает серьезный шаг от пропасти.
Мне показалось чрезвычайно интересным
наблюдение Т. Самохиной, что потенциальные
суициденты обладают ускоренным чувством
времени: им уже через полминуты начинает
казаться, что минута на исходе.
Лихорадочная торопливость — очень опасный
советчик и в быту, и в политике. Зато
аналитический спокойный тон лекций —
превосходный фильтр для личностей,
постоянно, без всяких внешних причин
охваченных такой торопливостью. Вообще, как
я понял, лучшее средство от них избавиться
— поручить им какую-то явно необходимую, но
будничную работу.
Я тоже делился своими мыслями и
накопленными материалами, и это, как я
теперь понимаю, тоже было важным этапом.
Хотя мне и грезился какой-то равноправный
союз благородных сердец, в котором нет
ведущих и ведомых, любой самой что ни на
есть добровольной организации все равно
необходим лидер — тот, для кого общее дело
является его важным личным делом. Грубо
говоря, у лидера не должно быть возможности
комфортабельного отступления. Благородный
порыв, без иронии, штука хорошая, но очень
неустойчивая: все, что я сам решил, я вправе
и перерешить. А вот обязательства перед
другими...
Они были только у меня: я впутал в это дело
слишком много серьезных людей, специально,
подчеркиваю, позаботившись об огласке, ибо
каждое газетное упоминание о нашем
обществе “Круг” (сочетание круга
единомышленников и спасательного круга)
давало мне новые козыри в переговорах с
официальными лицами. Тем, кто пожелает
повторить мой путь, я готов дать совет: если
даже вы в душе склонны думать, что на вашу
роль больше подошел бы более активный
человек, не обольщайтесь — на одну из
ближайших встреч он уже не придет. Поэтому
пусть вас не смущает, если вас выберут
председателем только потому, что друг друга
псе еще плохо знают: вполне можно будет
устроить и перевыборы, если возникнет новый
признанный лидер. (Но мне сложить с себя
тягостные атрибуты ответственности так и
не удалось.) Зато до поры до времени вы
будете иметь законную возможность
приглашать гостей, представляться, вести
собрание (не давать энтузиастам превращать
их в митинг), наводить связи — если все это
по скромности вы сложите с себя, дело,
скорее всего, рухнет.
Вполне могут появиться и недовольные —
вероятнее всего, из тех, кто хотел бы чего-то
эффектного и сразу. Поэтому вам придется
мириться с тем, что ваши ряды будут заметно
таять. Зато в конце концов останутся те, на
кого можно положиться. Опыт показал, что в
официальном многолюдье нормальные люди
сближаются с осторожностью. Поэтому какое-то
время вам придется играть роль того общего
знакомого, который всех связывает друг с
другом. А личные знакомства и симпатии,
оказалось, лучше всего завязываются в
привычной обстановке совместного чаепития
у кого-нибудь дома: среди волонтеров, даже
ненадолго к нам присоединявшихся,
постоянно оказывались — в большинстве
опять-таки женщины, предлагавшие для встреч
свои квартиры, иной раз весьма просторные, и
устраивавшие довольно пышные застолья:
другие женщины тоже обычно с собой
приносили какую-нибудь выпечку. Лично я
стандартно прихватывал с собой пачку чая —
тогда это был, кажется, дефицит. Алкоголь я
от греха подальше просил исключить, да и
охотников особых не находилось, кроме
одного явно патологического случая (о
желательности постоянных контактен с
профессиональным психиатром см. ниже).
Такие чаепития обычно превращались в
исполненные радостного узнавания себе
подобных беседы родственных душ о самых что
ни на есть последних вопросах. Оказалось,
что почти у кажлого лежит на сердце какой-то
тяжкий эпизод, который он сумел-таки
превозмочь (“превозмочь” — здесь означает
“выжил”). Были даже случаи, когда люди (почти
всегда женщины) приходили как будто только
рассказать об этом и потом снова исчезали.
Одна такая гостья очень спокойно и
методично поведала, как она получила
телеграмму о гибели сына, как отправилась
за билетом, как... Потом попросила
разрешения встретиться со мной отдельно и
больше не появлялась.
А иногда сам собой возникал вечер с
чтением любимых стихов, у кого они были, или
даже с пением: у двоих оказались совершенно
профессиональные голоса.
Впоследствии, побывав в Финляндии, Оксана
Евгеньевна рассказала, что примерно так там
и устроена одна из служб психологической
помощи: обычная квартира, украшенная в
значительной степени приношениями
пациентов — рисунками, вышивками: на столе
свинюшка-копилка, в которую желающие могут
опустить сколько душа просит и позволяет
кошелек, — эти деньги идут на общий стол для
скромного чаепития. Еще что-то приносят
любительницы кулинарничать; если не хватит
— восполняет из казны социальный работник
— он единственный здесь получает зарплату (скромную),
чтобы огонек, на который можно зайти, горел
постоянно. Сколько таких клубов положено на
город? Столько, сколько нужно: станет тесно
— откроют новый. Для города деньги
копеечные.
Для любого — надо только захотеть. Вполне
можно найти и спонсора, пообещав ему
дружескую улыбку мэра, но мэр, повторяю,
должен этого пожелать. Либо кто-то рядом с
ним. А я, увы, после первой осечки уже не
пытался обращаться в верха, что считаю
серьезнейшим своим упущением.
Профессиональные медики, которым даже для
онкологических больных не хватает средств,
я думаю, никогда не смогут оторвать их для
практически здоровых, кои по собственной
воле... Может быть, учреждения,
предназначенные для предотвращения
самоубийств, следовало бы финансировать из
каких-то менее “острых” статей бюджета?
Скажем, службы занятости начали создавать
клубы для психологической поддержки
безработных — дело благое: осталось еще
сделать кое-что для тех, у кого работа есть,
— безработица далеко не единственное
бедствие, личные отношения и сейчас главный
источник всех если уж не радостей, то
несчастий. Кстати, среди безработных
хватает и психологов, а волонтеры, я уверен,
и сегодня найдутся. Одни будут уходить, но
другие — приходить.
Когда ядро уже сложилось, струйку вновь
прибывающих фильтровать гораздо легче.
Ядро “Круга” составили, что называется, “нормальные
люди” — с приличной работой, хорошей
семьей, прочным кругом знакомств, — ну,
словом, те, у кого, житейски выражаясь, все
нормально. Только душа просит чего-то еще,
какого-то еще служения, кроме служения себе
лишь самому и своим близким, которые все
равно что ты сам.
А вот те, у кого собственная бытовая жизнь
в руинах, как бы ни стремились оказывать
помощь другим, больше нуждаются в ней сами.
Хотя в принципе одно другому не
противоречит: помогая ближнему, помогаешь и
себе — как минимум, повышаешь самооценку.
Правда, есть мазохисты, которые и из этого
могут устроить новую пытку: а достаточно ли
искренне я помогаю?..
Личности, которых всю жизнь окружали и
окружают хамы, эгоисты и подсиживатели, и в
самом избранном “Круге” всегда найдут на
что обидеться. Но все же среди людей,
специально ориентированных на
снисхождение, им иногда удается
задержаться. В ядро “Круга” — не больше
десятка человек — я уже не боялся ввести
нового человека: хуже, по крайней мере, не
будет.
Помимо этого ядра, возник и некий
периферийный “Круг”, тоже что-нибудь с
десяток людей, появляющихся редко, но
охотно исполняющих одноразовые просьбы:
сходить в ЖЭК с кем-то из несчастных, кто уже
без судорог не может видеть чиновника за
столом, ну, сопроводить домой бежавшую от
отцовского гнева девчонку,
поприсутствовать при беседе разведенных
супругов, один из которых опасается насилия
со стороны другого... Все это вроде бы мелочи,
но такие вот мелочи часто и становятся
последним толчком. Кроме того, каждый из
друзей “Круга” где-то работал, а потому
иногда мог предоставить кое-какой мелкий
блат: достать билет, устроить консультацию
у юриста или врача — а и это на дороге не
валяется.
Другое дело — пропускная способность
наша была не очень велика: я старался, чтобы
“нормальные” имели явный численный
перевес над дезадаптированными. Но их, к
счастью, и не оказывалось слишком много.
Я съездил в клинику скорой помощи, что у
отрогов Волкова кладбища, досягающих аж до
Купчина, — в эту клинику и свозят “попыточников”
и еще гораздо больше “попыточ-ниц” — в
основном в токсикологическое отделение. (Зато
в завершенном суициде преобладают мужчины,
склонные к более свирепым формам
саморасправы.) В токсикологическом
отделении, где в палатах с решетками на
окнах распростерты под капельницами жертвы
всевозможных ядов — от грибов-поганок до
суррогатной водки, — я познакомился с
бессменным заведующим — Владимиром
Михайловичем Бучко. (Насколько это чудесный
человек — предмет особой поэмы, я хочу
сказать — гимна. В его небольшом кабинете
мы не раз беседовали на острые политические
темы, и обо всем он рассуждал очень здраво и
как-то необыкновенно чистосердечно.
Украинское село, в котором он родился, было
присоединено советской властью очень
поздно, а потому никто вокруг него не мог и
помыслить, что газета способна публиковать
заведомую ложь. А однажды он сказал
серьезно и мудро: “Главное — это люди,
которые — кризис не кризис, инфляция не
инфляция, а пойдут на работу и будут делать
свое дело”. Ибо и при коммунистах, и при
демократах отравленников все равно надо
вытаскивать.) Владимир Михайлович выделил
мне удобный день недели, когда я буду
приезжать в отделение и беседовать с кем-то
из суицидентов, подобранных для меня
тамошним психиатром Кларисой Абрамовной
Позамантир. Клариса Абрамовна считала, что
кончают с собой люди с ослабевшим
инстинктом самосохранения, и восхищалась
смелостью гайда-ровских реформ; правда, со
временем я заметил в ней склонность
списывать именно на реформы рост
суицидальных попыток. “Но во время войн
жить еще труднее, а уровень самоубийств
снижается”. — “Во время войн все-таки есть
надежда, что они когда-то кончатся”. Такова
уж участь российских либеральных
преобразований быть сопоставляемыми с
самыми страшными бедствиями — как же их
после этого снести!
Клариса Абрамовна старалась подбирать
мне таких пациентов, для кого данный срыв не
вытекал из их постоянного образа жизни, кто
мог после временной поддержки идти
самостоятельно, как это им вполне удавалось
раньше.
Во избежание лишних вопросов Клариса
Абрамовна представляла меня как психолога
и удалялась. Мы беседовали на дерматиновой
“банкетке” в коридоре — специальное
помещение для психотерапевтических бесед
здесь не было предусмотрено ввиду
отсутствия самого психотерапевта. Но за это
время можно было в лучшем случае только
вызвать кое-какое доверие к себе да
выяснить самые поверхностные
обстоятельства. Ну и, конечно, по мере сил
приподнять настроение. (Вот только, увы,
настроение человека неизмеримо больше
зависит от того, чего он ждет от жизни, чем
от того, что ему говорят.) Затем я оставлял
номер своего телефона и просил после
выписки позвонить. Звонило явное
меньшинство, но номер, как я случайно
выяснил, оставлял и кое-кто из незвонивших.
В обязанности Кларисы Абрамовны входило
только оценить, насколько высока
вероятность рецидива. Если она была высока,
пациента переводили в психиатрическую
больницу, хотя бы он и не проявлял признаков
душевного расстройства: видимо, только там
можно было осуществить достаточно плотный
контроль. Поскольку в клинику каждый день
привозили в среднем существенно больше
десятка суицидентов, времени ей,
естественно, не хватало, чтобы войти во все
их проблемы да еще и помочь их разрешить —
тем более что это вообще не дело психиатра.
И я с болью ощущал, что именно здесь, на
пороге возвращения в тот самый мир, который
и привел их сюда, “попыточникам” необходим
психотерапевт, который мог бы не просто “поддержать
их словом”, а помог бы как-то утрясти их
реально существующие проблемы — чаще всего
связанные с их близкими. А для этого
необходимо поддерживать отношения с
выписавшимися на воле.
Я предложил для этой роли психолога,
входившего в “Круг”; Владимир Михайлович
вполне согласился, однако ставки для “патронажного”
психотерапевта выбить ему не удалось. Так
это осталось и по сей день.
Когда в больнице снимают острую форму
пневмонии, выписавшийся пациент может
долечиваться и “наблюдаться” амбулаторно.
А когда из больницы выписывается суицидент,
он, в общем-то, выпадает из поля зрения. Хотя
конфликты его поджидают прежние — ну, разве
что на время притихшие. Но, в общем-то,
претензии сторон друг к другу сохраняются:
попытка самоубийства — не средство
убеждения, а разве что устрашения.
Давайте разберем такой, например, эпизод:
молодой супруг еще в советское время
активно берется возводить дачу и
попадается при попытке вынести с завода
электромотор для насоса. В поучение другим
показательный суд устраивают прямо на
заводе, дают три года. На последнем свидании
парень “благородно” позволяет молодой
жене не терять из-за него золотые годы —
если что, он ее поймет. Молодая жена не менее
благородно ездит к нему с тремя пересадками,
влача на себе снарядные пуды консервов,
накупленных на ее лаборантскую зарплату,
пока его распрекрасные папаша с мамашей
досматривают у телевизора восьмое
мгновение весны, ни разу, однако, не
пригласившие ее из соседней комнаты (не
говоря уж, чтоб с ребенком посидеть). И тем
не менее она воспользовалась его
разрешением только раз — два раза по разу.
Он же, вернувшись, принялся выпытывать, было
или не было, обещал все простить — и снова
обманул, стал придираться к любому
знакомству, любой задержке. Однажды,
подработав сверхурочно, купил ей к Новому
году костюм — и вдруг унюхал, что от нее
пахнет вином, — сто грамм сухого на
общелабораторном застолье, среди
интеллигентных людей, не ему чета! Так он
взял и запихал костюм в мусоропровод! Дурак
какой-то...
В клинике она оказалась после того, как на
институтском вечере, приглашенный в
приличное общество, он публично выплеснул
ей в лицо стакан клюквенного сока только за
то, что она якобы слишком нежно с кем-то
танцевала. Хотя, вообще-то, он трус страшный:
и родителей боится, и в магазине боится шум
поднять... Она настолько ослеплена своей —
совершенно обоснованной! — обидой, что даже
не замечает терзающих мужа мук ревности, от
которых он сходит с ума и завтра, вполне
возможно, тоже окажется в другом крыле той
же самой клиники (если не прямиком в
судмедэкспертизе — мужчины чаще вешаются и
режутся). Но каждый из них до такой степени
чувствует лишь свои страдания и
отказывается видеть мир глазами другого,
что... Психотерапевт, которого они уважали
бы, помог бы им раскрыть заклеенную обидой и
болью часть зрения, а оставить их снова
наедине...
Множество людей просто не умеют
разговаривать друг с другом. Они не
понимают или стыдятся признаться в своих
истинных мотивах, не умеют или стыдятся
говорить о своих подлинных чувствах... Один
строительный рабочий, с виду мужлан с
нержавеющими зубами и слегка алкогольным
юморком, отравился какой-то смесью лекарств,
оттого что жена выгоняла его из (ее) дома за
пьянство — всего-то раз за полгода! Но у нее
когда-то “из-за пьянки” повесился муж, а
потому на малейший выхлоп у нее аллергия,
тем более что вся родня твердит: зачем он
тебе? Уж как он старался, всех дружков
разогнал, ну однолюб он уродился, ну не
может он без этой женщины! Клариса
Абрамовна даже собиралась переводить его в
психбольницу, хотя он абсолютно нормален, —
но мысль оказаться в своей комнате-одиночке”
внушает ему необоримый ужас. Тем не менее
жена, железная леди, не желает слышать
никаких его клятв, обещаний подшиться, — а
он не хочет слышать, что все пройдет, что он
еще кого-то себе найдет...
Тогда я посоветовал ему больше не
настаивать на своем — она от этого лишь
мобилизуется (когда он проглотил все, что
было в аптечке, она “только еще сильней
ругаться стала”), а сказать мягко и душевно:
“Ты можешь меня прогнать, но ты не можешь
запретить мне любить тебя. Я буду ждать —
год, два, всю жизнь...” Эта формула хотя бы
давала ему какое-то светлое пятнышко
впереди, а тем временем, глядишь, что-нибудь
и переменится. Бедняга страшно меня
благодарил, но с такими неотесанными
интонациями, что я сильно усомнился в
успехе. Однако через неделю он позвонил мне,
захлебываясь от радости: он провожал свою
милую на трамвае “в смену” и все
уговаривал, уговаривал, а она все каменела,
каменела, а у него никак язык не
поворачивался выговорить, что я
насоветовал. И только когда надо было уже
сходить, наконец собрался с духом — он
повторил что-то неловкое, отрывистое, но — у
нее на глазах появились слезы! Еще через
пару-тройку дней я позвонил ему в “одиночку”
— соседка сказала, что он уехал к жене. Уж не
знаю, надолго ли, но, во всяком случае, любая
отсрочка несчастья — это адаптация к нему.
Очень многим людям временами нужны
посредники и толкователи их же собственных
чувств. А наш “Круг” мог в основном лишь
служить проводником “медленной помощи”,
изменяющей картину мира, либо оказывать
мелкие бытовые услуги. Но прямую утрату
смысла жизни вне кризисной житейской
ситуации сознательно переживали только
отдельные аристократы — мне попался лишь
один молодой человек, наделенный
сверхпоэтической внешностью, который
пытался отравиться просто из-за того, что
незачем жить: тоска, ни от чего никакого
удовольствия... вот он прямо восторженно
ухватился за формулу “Человек живет не для
удовольствия”. “А для чего же?” — “Для
того, что считает красивым, достойным...” —
“Правильно, правильно!!!” Потом его мать
говорила мне, что, по его словам, никто его
не понял так, как я. Хотя я не говорил ничего,
кроме трюизмов, — но их-то людям и не
хватает, медленной помощи, которую может
осуществить лишь общество в целом. По
крайней мере, значительная его часть,
способная создать собственную субкультуру.
Короче говоря, выписывающимся
суицидентам необходим патронаж
психотерапевта (в Казани, например,
психотерапевт приезжает к каждой выписке,
входит в суть дела, оставляет контактный
телефон — возможно, и в этом одна из причин,
что уровень самоубийств в Казани — едва ли
не единственной в Российской Федерации — с
94 года снижается). В какой-то степени
психотерапевтов могут заменить и
специально подготовленные волонтеры.
Однако они должны быть готовы к тому, что
кто-то будет почти враждебно или
презрительно отказываться от всяких
контактов, кто-то будет слащаво благодарить,
но не раскрываться: все неудачи следует
использовать только для одного — для
извлечения уроков. Иногда и страшных.
Амбиции следует засовывать подальше и
тогда, когда симпатичный тебе волонтер
перейдет в какую-нибудь конкурирующую
организацию: надо натаскивать себя на то,
что это не конкуренты, а соратники. Если
даже они держатся как конкуренты.
С религиозными “ячейками”, в частности, у
нас как-то не сложилось дружбы: меня с
детства учили уважать чувства верующих, но
встречного уважения я что-то не разглядел —
замечал лишь высокомерие,
снисходительность, а то и злорадство: ну что,
попробовали устроиться без бога?.. Хотя в
нашем “Круге” были и верующие. Но те, кто
хотел только слушаться, переходили в секты
попроще, а то и к самодельным пророкам
районного значения. “Они будут дивиться на
нас и считать нас за богов за то, что мы, став
во главе их, согласились выносить свободу и
над ними господствовать — так ужасно им
станет под конец быть свободными”, —
предрекал Великий инквизитор.
А вот настоящего психиатра в пределах
досягаемости волонтерской организации
иметь нужно: если вы явились в зону
обнаженной трагедии, набравшись
либеральной дури — ну, что всякая личность
в рамках закона имеет право жить, как ей
угодно, — вам, если только у вас есть хоть
крупица совести, то есть ответственности за
что-то еще, кроме красоты своего морального
облика, придется признать неустранимую
обязанность человека выбирать не из одной,
а из целого спектра противоречащих друг
другу, но равно священных истин. Пожалуйста
— эта девятиклассница объелась снотворным
ч-за того, что мама (кандидат биологических
наук) заставляет ее ходить в школу, вместо
того чтобы хипповать по подвалам и
теплотрассам. Имеет она право хипповать?
Имеет. А экстравагантные обитатели
подвалов и брошенных домов имеют право ее
изнасиловать и заразить гонореей? Не имеют.
Но делают. Должны ли мы были сковать свободу
бедной девочки до наступления этого
события? Разумеется, нет: это было бы
покушением на ее свободу. А после события —
имеем ли мы право воспрепятствовать ей
расплачиваться за ночлег и еду своим
подпорченным юным телом? Конечно же, нет:
она свободна. Но мы-то не свободны, мы должны
бесплатно лечить и ее, и ее благодетелей, а
когда она окончательно сведет в гроб свою
до времени состарившуюся маму, мы обязаны
будем и хоронить ее за казенный счет, ибо ее
супруг сбежал от такой дочурки еще года два
назад. А когда она, взрослая, окажется без
профессии, а следовательно, и без средств к
существованию — нет, тут уж будет вполне
либерально оставить ее подыхать на улице.
Я навещал ее в детской психиатрической
клинике и мог бы гордиться, что со мной
единственным она не просто бежала
пообщаться, но еще и, среди рыданий,
взрывообразно хохотала моим шуткам. Однако
гордиться я не стану, ибо я единственный
ничего от нее не требовал. Или, заостряя, я
единственный ничего не предпринимал, чтобы
спасти и ее маму, и ее саму от ее же безумных
порывов. Я только, пошучивая, старался хоть
немного примирить ее со всеми ее врагами:
ума в ней было вполне довольно — она и
училась прилично. Но когда я уходил, она
разражалась звериными рыданиями с
пятикратным эхо и пыталась ломать
подручную мебель.
Зато дня через три, накачанная
препаратами, она уже выходила сонная,
отекшая и, отупело побормотав, брела
обратно. Что лучше — выбирайте сами. Только,
вспоминая всевозможные полеты над гнездом
психушки, попытайтесь вообразить себя на
месте ее матери. Или матери того парня,
который от нее чего-нибудь подхватит. Или...
Но нас только личные опасности способны
отвратить от либерализма: мы имеем право
себя защищать — общество нет. Когда дело
нас не касается, мы готовы снизойти ко всему.
В старые добрые времена душевнобольные
имели полную возможность свободно бродить
по свету и поступать, как им вздумается, а
душевноздоровые — обходиться с ними, как
вздумается: поклоняться им как бого-вдохновенным
пророкам или жечь их на кострах как
одержимых дьяволом, убивать, обирать — ну,
словом, вы свободны, и мы свободны. Право
больных быть помещаемыми в психиатрическую
клинику когда-то считалось величайшим
завоеванием гуманизма по отношению к
бедным безумцам. Теперь под это достижение
начинают подкапываться как под злостное
попрание прав человека: что это за жрецы в
белых халатах, уполномоченные решать, что
болезнь, а что оригинальность. Из того факта,
что нормы душевного здоровья социально
обусловлены, делают вывод, что этих норм
вообще быть не должно: вы его считаете
ненормальным, а он вас. Так внедряется в умы
еще одна утопия, мечтающая о мире, где можно
будет жить, не беря на себя ответственности
за различение нормы и патологии. Напомню
одну из важных разновидностей самоубийства,
выделенную Дюркгеймом,— анемическое
самоубийство, рожденное упадком
общепризнанных норм и ценностей.
Я думаю, не все убеждения следует уважать
— общество через своих уполномоченных
обязано брать на себя ответственность кое-какие
убеждения объявлять бредом. Компания
подростков создает “Общество друзей
Люцифера” для игр со смертью: по очереди
вешаются, чтобы словить некий кайф, а
коллеги следят, чтобы вовремя вынуть из
петли, — пока наконец председатель
общества не вешается окончательно, Надо ли
было здесь вмешаться психиатрии? Спросите у
его родителей. Но мать его осиротевшего
друга тоже считает, что это просто “дурь”,
и клянет приятелей своего сына, “этих
крокодилов”, когда пацан вскрывает себе
вены и собирает кровь в стеклянную банку.
После всех громов на голову карательной
психиатрии я все же рискну предположить,
что суд профессионального психиатра будет
в таких случаях меньшим злом.
Непрофессионалу бывает трудно распознать в
экстравагантности даже такую будничную
пещь, как наркотическое опьянение. И все же
в пограничных случаях, возможно, имеет
смысл к диагностическому суду над
расположенными к саморазрушительному
поведению личностями привлекать и “присяжных”
— волонтеров, склонных мыслить более “по-человечески”.
Быть может, союз научного и обыденного
разума в этой пограничной зоне между ними
позволит выйти к какому-то наименьшему злу.
Мне кажется, самой надежной системой
профилактики самоубийств будет та, которая
создаст четкое сотрудничество психиатров,
психотерапевтов и волонтеров, вступающих в
дело на разных фазах реабилитации. Очень
жаль, что “Круг” наш распался: деспотизм
рухнул, пришлось срочно зарабатывать
деньги — я вынужден был пропустить одну
встречу, другую... А потом уж как-то и звонить
стало неловко... Такими делами нельзя
заниматься урывками. Однако наш опыт
доказал, что волонтерская служба, во-первых,
возможна, а во-вторых, полезна. Повторение
этого опыта вполне осуществимо и сейчас:
держать на зарплате достаточно одного
человека — стремящегося сделать свое дело
всерьез. При наличии определенных
способностей этот лидер мог бы растрясти и
какого-то спонсора, — конечно, такой славы,
как от конкурса красоты, с самоубийц не
соберешь, но кое-что наскрести все-таки
можно. Даже лично я обязуюсь увековечить в
печати имя этого благотворителя. Но сначала
должен явиться лидер.
|