 |
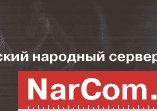 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“… В целом проведенный
анализ показывает, что сокращение
количества индивидуальных пессимистов
подготовлено не только всем десятилетним
периодом "внешних" социально-экономических
и политических трансформаций, но и
внутренними изменениями в мировосприятии и
освоении новых социальных навыков
значительной частью российского населения”. Социальная детерминация индивидуального сознания в трансформирующемся обществеКесельман Л.Е., Звоновский В.Б., Мацкевич М.Г.
1. Проблемы адаптации индивидуального сознания в трансформирующемся обществеПри переходе к новым формам организации общественной жизни адаптация населения к изменяющимся условиям происходит, как минимум, в двух внешне независимых друг от друга, но внутренне стратегически тесно связанных между собой пространствах обстоятельств. В первом из них, относительно доступном для внешнего наблюдения, происходит адаптация различных социальных групп (и составляющих их индивидов) к изменяющимся социальным условиям жизни (в первую очередь, материальным и экономическим). Арсенал средств, используемых при этом, состоит по преимуществу из материальных благ (жилищные условия, недвижимость и другие имущественные обстоятельства) и социальных позиций, унаследованных от предыдущих социально-экономических обстоятельств, обеспечивающих удержание (или развитие) сложившегося уровня и качества жизни [1]. Среди них, в первую очередь, - экономический и профессиональный статус, а также системы социальных связей. Другая область, внутри которой происходит адаптация, - это ценностно-нормативное пространство, детерминирующее изменившиеся (изменяющиеся) социальные отношения. В этом пространстве на уровне поведенческих навыков происходит (или не происходит) освоение норм, адекватных новым социальным обстоятельствам, но - главное - интернализация ценностных приоритетов и общей системы мироотношения, обеспечивающей индивиду эффективную реализацию собственных жизненных программ в изменившихся социальных обстоятельствах [2]. Представление человека о причинах происходящих с ним событий, локализация этих причин в себе или во внешних обстоятельствах является одной из важнейших характеристик, определяющих осознающую себя личность. Если человек видит причины происходящих с ним событий по преимуществу в себе самом, объясняя их своими склонностями, характером, способностями или своими конкретными поступками, то это свидетельствует о наличии у него внутренней (интернальной) локализации контроля, или внутренней атрибуции ответственности. Если же он склонен видеть причины происходящих с ним событий в судьбе или случае, в других людях, начальстве, государстве или окружающей среде, то это говорит о наличии у него внешней (экстернальной) локализации контроля, или внешней атрибуции ответственности [3]. Ощущение (не обязательно осознанное) доминирующей причинности собственной судьбы и ответственности самого человека за основные события в своей жизни, сформировавшись в определенном возрасте, в дальнейшем почти в неизменном виде сопровождает человека практически всю жизнь. Это глубоко усвоенное представление определяет и его отношение к себе и миру, и почти все наиболее значимые намерения и поступки, и большую часть навыков повседневной жизни. Как свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и зарубежных психологов, способность принимать на себя ответственность или отсылать ее вовне является предельно устойчивой (консервативной) чертой личности. Те, кто осознает преимущественно собственную ответственность за свою судьбу и основные ее события, как правило, более инициативны, более рациональны и конструктивны, менее агрессивны и более доброжелательны и, принимая решения, рассчитывают в первую очередь на себя и свои собственные усилия в достижении поставленной цели. Отсылающие ответственность к внешним обстоятельствам склонны видеть причины происходящих с ними событий в судьбе или случае, в других людях, начальстве, государстве или окружающих условиях. Такие люди, как правило, менее инициативны, менее рациональны и в большинстве своих неудач и неприятностей видят злой умысел и козни недоброжелателей или тайных врагов (что, впрочем, не мешает им искренне приписывать себе основные заслуги за те удачи, которые случаются в их судьбе). В своей повседневной жизни такие люди, как правило, исходят из несколько иррационального представления о том, что окружающие (соседи, родственники, коллеги, просто случайные прохожие, но особенно начальство и "государство") обязаны обеспечить реализацию их основных потребностей [4]. В своих представлениях о доминирующей причинности происходящего различаются не только отдельные люди, но и социальные группы, и даже целые общества. Наиболее развитые страны выделяются не только развитой промышленностью и экономикой, но и господствующим в них типом представлений о причинности происходящего в судьбе человека. В обществах с устоявшимися демократическими институтами и развитой экономикой преобладают представления о внутренней ("интернальной") причинности происходящего с человеком. В обществах, находящихся на более низком уровне развития, преобладают представления, приписывающие основную ответственность за происходящее с человеком внешним, не зависящим от него обстоятельствам. Общество, состоящее из людей с "феодальным" сознанием, не осознающих собственную ответственность за судьбу, но рассчитывающих на ответственность за нее справедливых и добрых начальников, как правило, не может обеспечить всем этим людям сколько-нибудь приемлемый "современный" уровень жизни. Уровень этот люди могут обеспечить себе сами своим ответственным, рациональным поведением, и, в первую очередь, свободным, а значит ответственным, экономическим поведением. Но освоение адекватных форм такого поведения предполагает соответствующее этому поведению сознание, которое у каждого взрослого (социализированного) человека крайне инерционно и очень трудно трансформируется. Аналогичная инерция присуща и социальному (или, как принято говорить, общественному) сознанию [5]. В конце восьмидесятых наше общество, в подавляющем большинстве состоявшее из людей, приписывающих ответственность за свою собственную судьбу внешним, не зависящим от них обстоятельствам, легко переключило эту ответственность с официальных коммунистических опекунов на их преемников. Глубоко усвоенная парадигма тоталитарно-государственного патернализма вплоть до начала экономических реформ сохранялась в своем первозданном виде. Повышение уровня благосостояния виделось не через изменение привычных глубоко усвоенных форм своего социального (в первую очередь, профессионального и экономического) поведения, а как результат деятельности новых руководителей. Делегировав "новых людей" в органы власти, значительная часть нашего общества сочла свой позитивный вклад в обеспечение новой жизни в основном состоявшимся. То, что не смогли или не захотели сделать обещавшие всеобщее благоденствие коммунисты, теперь должны были осуществить "демократы", многие из которых несли в себе те же иллюзии общественного сознания (что и позволило им вполне искренне обещать скорое воплощение социальных ожиданий). Для "вступающих в жизнь" проблемы их адаптации в пространстве обновляющихся социальных норм и ценностей, в принципе, мало чем отличаются от общих проблем социализации [6]. Другое дело - интернализация новых ценностно-нормативных систем индивидами, чья социализация произошла ранее. Такая интернализация, как правило, сильно осложняется наличием относительно целостной (внутренне непротиворечивой) системы мироотношения, ценностно-нормативных представлений и поведенческих навыков, сложившихся прежде [7]. Следы подобных закономерностей обнаруживаются практически во всех сферах жизни трансформирующегося общества. Но особенно заметны они в экономической и достаточно тесно связанной с ней политической сферах жизни [8]. Как свидетельствуют результаты не только наших, но и многих других исследований, проблемы современного российского общества в значительной (если не в решающей) мере обусловлены именно этими "осложнениями", механизмы микширования которых до сих пор остаются мало исследованными [9]. Аналогично тому, как индивидуальное сознание личности, осознаваемое ею (осознаваемое сознание), есть лишь относительно незначительная часть всего сознания, включающего не только актуально осознаваемое, но и значительные пласты под- над- и вне-сознания, социальное сознание также содержит в себе не только осознаваемые и вербализуемые (декларируемые) приоритеты, ценности, нормы и способы поведения, но и значительный объем существующих рядом (не вместо вербализованных частей социального сознания, а именно рядом, одновременно с вербализованными элементами социального сознания) социальное под- над- и вне-сознание. Социальное (социум) есть внешнее по отношению к индивиду ("не зависящее от воли и желания отдельного человека"), поднимающее его как над его биологической, так и над его собственной психической природой. Именно социальное превращает индивида в того "объемного" человека, регуляция деятельности которого осуществляется параллельно на самых разных уровнях: от физического до психического и социального. Явления и события любого из этих уровней способны оказывать существенное, подчас кардинальное воздействие как на отдельного человека, так и на общий социальный процесс. Уточним: социальное сознание - не совокупность индивидуальных, а надличностное образование, в которое, подобно тому, как физические тела погружены в земную атмосферу, погружены индивидуальные сознания; и в котором эти индивидуальные сознания формируются в процессе социализации на первых этапах своего становления. Для современной социологической теории подобные концептуальные построения не являются чем-то необычным. Однако, как нам представляется, методология эмпирического наблюдения и анализа, реализующая себя в наиболее распространенных опросных технологиях, не позволяет на эмпирическом уровне надежно вычленить собственно социальное из индивидуального (того, с чем непосредственно сталкивается наблюдатель в ситуации опроса). В социологических опросах элементы индивидуального и социального сознания (в частности, ценностно-нормативные образования), как правило, предстают в нерасчлененном виде. Это существенно затрудняет исследование их взаимосвязи на эмпирическом уровне. Отсюда следует необходимость вычленения (сепарации) этих элементов индивидуального и социального сознания в практике эмпирических исследований. Следует отметить, что и в зарубежной практике также существует описанный выше отрыв общетеоретических представлений от соответствующей практики массовых опросов и эмпирических наблюдений. Непосредственным объектом этих наблюдений обычно является не концептуализированная социальность в соответствующих ее операционализациях, а все тот же индивид (респондент), несущий в себе внешне неразличимое единство индивидуального и социального. Настоящая работа является развитием начатого в 1989 году цикла исследований, одним из направлений которых был поиск методологии вычленения (сепарации) ценностно-нормативных образований индивидуального и социального сознания в практике массовых социологических опросов [10]. 2. Оптимизм/пессимизм в различных исследовательских подходахПонятно, что в период масштабных социально-экономических сдвигов, подобных современным российским, практически каждый человек сталкивается не только с изменением внешних (для большинства, в первую очередь, материальных экономических) условий существования, но и с не менее масштабными смещениями значительной части ценностно-нормативных координат [11]. В этой ситуации адаптивный потенциал отдельно взятого индивида пропорционален величине его индивидуального оптимизма, а совокупный потенциал оптимизма в трансформирующемся обществе определяет возможность необратимости и завершения происходящих социальных изменений [12]. Исследования личностного оптимизма/пессимизма (не всегда обязательно в этих терминах) имеют богатую традицию в общей и социальной психологии, а также в собственно социологии. В рамках психологического подхода как в нашей отечественной, так и в зарубежной практике оптимизм/пессимизм отдельно взятого человека рассматривался главным образом как его "врожденное" свойство или результат формирования личности на первых этапах социализации [13]. Естественно, конкретные социальные условия рассматривались психологами также как одно из важнейших обстоятельств личного оптимизма не только на этапе социализации личности, но и при определении актуального состояния человека [14]. Следует отметить, что в рамках психологической традиции оптимизм личности связывался не столько с предвидимым ею будущим и антиципацией, сколько с уровнем удовлетворенности человека актуальным благополучием и его общим позитивно-негативным восприятием жизни [15]. В собственно социологии понятие личностного оптимизма (пессимизма) стало использоваться относительно поздно, в конце 20-х-начале 30-х годов [16]. Понятно, что на первых порах это понятие и в рамках социологической парадигматики несло в себе заметный отпечаток своего "психологического" происхождения. В советской эмпирической социологии, возрождавшейся в 60-е годы, понятие "оптимизма" быстро обрело широкое применение. Чаще всего в различных эмпирических исследованиях советские социологи вынуждены были искать индивидуальные проявления и подтверждения социального оптимизма своих сограждан [17]. Другой полюс шкалы в собственно социологических исследованиях того времени, в лучшем случае, замалчивался в публикациях и отчетах, но чаще всего вынужденно игнорировался уже на этапе формирования программы исследования. В этом урезанном идеологической цензурой виде личностный оптимизм советского человека интерпретировался как результат его социализации в условиях советской действительности, помноженный на осознание перспектив коммунистического строительства. В редких случаях выхода за негласно предписанные рамки официального оптимизма неизбежно включался изощренный пресс репрессий [18]. При этом в качестве индикатора оптимизма обычно использовались различные показатели, связанные не с видением перспектив, а с удовлетворенностью нынешней ситуацией (удовлетворенность работой, семьей, досугом, решениями руководства и т.д., вплоть до удовлетворенности образом жизни и "ощущения счастья") [19]. Следует отметить, что не только в отечественной, но и в зарубежной социологической практике оптимизм (пессимизм) использовался в качестве одного из индикаторов удовлетворенности жизнью (life satisfaction), субъективного благополучия (subjective well-being) и счастья (happiness). В некоторых случаях сами эти феномены использовались в качестве индикаторов оптимизма [20]. Индикатор пессимизма/оптимизма, фиксирующий не отношение к нынешней ситуации, а ожидаемое будущее, в практике социологических исследований используется значительно реже. Авторами этих строк он был впервые применен в конце 80-х- начале 90-х годов, пожалуй, одними из первых [21]. В целом же в нашей стране этот индикатор получил относительно широкое распространение вследствие его регулярного использования при замерах индекса потребительских настроений в общероссийских опросах ВЦИОМа [22]. Сразу же после начала масштабных экономических преобразований пристальное внимание исследователей и общественного мнения стал привлекать не столько оптимизм, сколько еще недавно замалчивавшийся "пессимизм" [23]. В конъюнктурной социологии (а таковой и сейчас не меньше, чем в советское время) интересоваться исчезающим оптимизмом стало почти столь же "не модно", как еще недавно его альтернативой. Интересно, что отечественный переход интереса от позитивного к негативному полюсу шкалы оптимизма/пессимизма происходил на фоне общего перехода от идеи прогресса, как ключевой темы современности, к идее кризиса [24]. Понятно, что в сколько-нибудь серьезных исследованиях социальной действительности существует естественный интерес ко всей полноте шкалы оптимизма/пессимизма. Однако основной проблемой современных исследований этого социального феномена, как нам представляется, является недостаточная проработанность методологии эмпирического наблюдения и анализа взаимосвязи ценностно-нормативных образований индивидуального и социального сознания, и в частности, методологии вычленения ценностно-нормативных образований индивидуального и социального сознания в практике массовых социологических опросов и исследования социально-структурных факторов индивидуального оптимизма/ пессимизма. Многочисленные замеры оптимизма/пессимизма россиян, как в целом по стране, так и в отдельных ее регионах, дают некоторое представление об общей динамике развития этого феномена в некоторых социальных группах (региональных, возрастных, экономических, образовательных) [25]. Анализируемые ниже данные получены в исследовании, которое является развитием начатого в 1989 году цикла социологических наблюдений на базе массовых репрезентативных опросов населения некоторых регионов России (Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Кемерова, Воронежа, Тулы и других крупных городов). И в частности - исследование социально-структурных факторов регуляции индивидуального оптимизма/пессимизма в период социально-экономических преобразований России [26]. Одним из основных направлений этих исследований был поиск методологии вычленения ценностно-нормативных образований индивидуального и социального сознания в практике массовых социологических опросов. Направленность внимания на социально-структурные аспекты оптимизма/пессимизма является главной особенностью нашего исследовательского подхода, определяющего соответствующую методологию и методику. Наряду с прочим это означает и сознательный отказ от стремления к максимальной точности фиксации ровня оптимизма/пессимизма отдельно взятого индивида. Такая дотошность естественна и вполне обоснованна в рамках психологического подхода, но лишена сколько-нибудь серьезных оснований в социологическом исследовании, направленном на выявление собственно социальной составляющей исследуемых феноменов. Более того, стремление максимизировать точность измерения характеристик каждого индивида, как правило, лишает исследователя реальной возможности получить сколько-нибудь приемлемые по своей надежности характеристики социальной группы. Повышение качества индивидуального замера обеспечивается, как правило, за счет увеличения численности первичных переменных (тестовых вопросов), что, естественно, ведет к "утяжелению" методики. Это, в свою очередь, практически ликвидирует надежду на приемлемую репрезентацию относительно "малых" социальных групп (составляющих, скажем, менее десятой части всей исследуемой совокупности), а вместе с тем и возможность качественного измерения отдельных социальных групп. Таким образом, точность отдельного "индивидуального" измерения оказывается практически обратно пропорциональной точности собственно социального ("группового") измерения [27]. Сюда же примыкает и проблема выборки, репрезентирующей генеральную совокупность. Традиционный подход к решению этой проблемы базируется на, казалось бы, естественном постулате о равном "весе" любых отдельно взятых индивидов в "анатомии" и "физиологии" изучаемых социальных институтов и протекающих в них процессов [28]. В то же время практически все наблюдения, в том числе и полученные в рамках такого "эгалитарного" подхода, свидетельствуют о сильной дифференциации социального веса отдельных индивидов. Между тем, сколько-нибудь надежные данные о масштабах этой дифференциации при, как правило, ограниченных возможностях общего наращивания объема выборочной совокупности не могут быть получены (без специального социально-структурного квотирования или "районирования") из-за исходной нацеленности на пропорциональную представленность всех элементов генеральной совокупности. Первой жертвой такой "стратегии" оказывается возможность получения достаточно надежных данных об относительно малых социальных группах. Для выборочной совокупности в тысячу единиц наблюдения это, как правило, все группы, составляющие меньше десятой части генеральной совокупности. Но, используя в индивидуальных замерах "тестовые батареи", даже такую "скромную выборку" получить достаточно сложно. Именно поэтому уже на уровне первичного измерения социолога должны интересовать не столько внутренние особенности и точность фиксации индивидуальных характеристик (того же оптимизма/ пессимизма), присущих отдельно взятому человеку, сколько степень выраженности изучаемого феномена в различных социальных группах. Иначе говоря, стратегия репрезентативного социологического наблюдения должна быть направлена на расширение круга фиксируемых (описываемых) социальных групп, а не на их пропорциональную репрезентацию и точность индивидуальных измерений. По этой причине общую совокупность наблюдений, как правило, мы стремимся довести, минимум, до двух с половиной тысяч единиц, а в рамках первичного измерения индивидуального экономического оптимизма/ пессимизма мы ограничиваемся лишь фиксацией реакции респондента на вопрос: "Как Вы полагаете, Ваше материальное положение в ближайшее время (год) улучшится, ухудшится или останется примерно таким же?". Внешне это совпадает со вполне традиционной техникой анкетного опроса или интервью. Но интервьюер фиксирует не только текст вербального ответа опрашиваемого (выраженный в его словах), а свою оценку общей реакции наблюдаемого респондента. Реакция же эта выражается, как правило, не только в словах, но несет в себе интонационную и мимическую экспрессию, жестикуляцию и весь контекст общения респондента и интервьюера. 3. Общие характеристики оптимизма/пессимизма и их измененияИтак, на протяжении последних десяти лет (с осени 1991 года) Центр изучения и прогнозирования социальных процессов, в рамках долговременной программы исследования трансформации общественного сознания, периодически обращается к жителям Петербурга, Самары и некоторых других российских регионов с одним и тем же вопросом: "Как Вы полагаете, Ваше материальное положение в ближайшее время (год) улучшится, ухудшится или останется примерно таким же?". И в каждом из таких "замеров" (репрезентативных для соответствующих региональных центров) индивидуального оптимизма/пессимизма нами опрашивается не менее 2500 человек. Это позволяет получить надежные данные об интересующих нас характеристиках населения конкретного города, и о соответствующих характеристиках основных социально-демографических и социально-экономические группах этого населения. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного в Петербурге весной 2000 года, серьезно опасаются дальнейшего ухудшения своего материального положения около 5% жителей города на Неве, и еще 11% предполагают такую перспективу не очень уверенно. С другой стороны, примерно каждый десятый (9,5%) твердо убежден в том, что в ближайшее время уровень его материального благополучия заметно повысится, и еще 26% не столь категоричны в прогнозах повышения собственного благосостояния. В целом, ранней весной 2000 года в Санкт-Петербурге было обнаружено 16% индивидуальных пессимистов, с той или иной уверенностью опасающихся перспективы ухудшения своего материального положения. Им "противостояли" 35,5% индивидуальных оптимистов, так или иначе ожидающих повышения своего благосостояния. Остальные 48,5% не ожидали каких-либо заметных изменений в своем нынешнем материальном положении. Как видим, по своей численности оптимисты, ожидающие повышения уровня своего благосостояния, в два с лишним раза превосходят непривычно малую для российской действительности группу пессимистов. Наиболее естественная реакция на такую аномалию: "Ошибка измерения?" Однако в следующем опросе, проведенном в Петербурге вскоре после этого, мы вновь получили почти трехкратное преобладание оптимистов над их антиподами. Всего в нынешнем (2000) году нами проведено в Петербурге четыре опроса, посвященных обсуждаемой теме; и в каждом из них, как уже упоминалось, по установившейся традиции (точнее, по принятой программе) было опрошено примерно по 2500 человек. При этом приведенное выше распределение оптимистов и пессимистов воспроизводилось с отклонениями не более чем в 2-3%. Поскольку данные, полученные в каждом из этих вполне репрезентативных для города опросов, достаточно близки между собой, мы сочли возможным объединить для специального анализа все четыре полученных массива данных в один, общая численность которого составила около десяти тысяч человек. По данным этого "гиперопроса", проведенного в Петербурге в течение нескольких месяцев 2000 года, было обнаружено 3,5% серьезно опасающихся дальнейшего ухудшения своего материального положения и еще 9% предполагающих такую перспективу не очень уверенно. С другой стороны, примерно каждый десятый (9%) твердо убежден в том, что в ближайшее время уровень его материального благополучия заметно повысится, и еще 30,5% не столь категоричны в прогнозах повышения собственного благосостояния. В целом же, в 2000 году в Санкт-Петербурге было обнаружено 12,5% индивидуальных пессимистов, с той или иной уверенностью опасающихся перспективы ухудшения своего материального положения. Им "противостояли" 39,5% индивидуальных оптимистов, так или иначе ожидающих повышения своего благосостояния. Остальные 48% не ожидали каких-либо заметных изменений в своем нынешнем материальном положении. Как видим, общее распределение оптимистов и пессимистов, полученное в четырехкратно повторенных петербургских замерах, мало отличается от первоначального (а имеющееся отличие лишь увеличивает преобладание индивидуального оптимизма, зафиксированное в первом опросе 2000 года). В Самаре в это же время (по данным опроса, проведенного весной 2000 года) в той или иной мере опасался ухудшения своего благосостояния примерно каждый восьмой - 13,5% - житель этого крупнейшего центра Поволжья. С другой стороны, практически треть - 34% - жителей Самары ожидали повышения своего благосостояния, а остальные - 52,5% - не ожидали каких-либо заметных изменений в своем нынешнем материальном положении. Как видим, соотношение оптимистов и пессимистов, зафиксированное в 2000 году в Самаре, мало чем отличается от того, что мы видели в Петербурге. В обоих городах в 2000 году обнаружилось более чем двукратное преобладание оптимистов над их антиподами. Но еще за полгода до этого в той же Самаре (по данным опроса, проведенного нами осенью 1999 года), серьезно опасались дальнейшего ухудшения своего материального положения 7% опрошенных жителей этого города, и еще 21,5% предполагали такую перспективу не очень уверенно. В целом же, тогда было обнаружено 28,5% индивидуальных пессимистов, так или иначе опасавшихся перспективы ухудшения своего материального благополучия, которым противостояли 20,5% индивидуальных оптимистов, с той или иной уверенностью ожидавших повышения своего благосостояния (остальные - 51% - не ожидали каких-либо заметных изменений в своем материальном положении). То есть соотношение оптимистов и пессимистов было едва ли не диаметрально противоположным: пессимисты по своей численности превосходили оптимистов почти в полтора раза. Но и это было не самым худшим для последнего десятилетия российской действительности. Преобладание оптимистов, ожидавших повышения своего благосостояния, за все это время мы обнаружили лишь однажды. Это было в августе 1997 года, когда негативных изменений серьезно опасались около 8% (из почти 3,5 тысяч) опрошенных жителей Самарской области, и еще 15% предполагали такую перспективу не очень уверенно [29]. В целом, тогда в Самаре было обнаружено 23% индивидуальных пессимистов, с той или иной уверенностью опасавшихся перспективы ухудшения своего материального положения, которым "противостояли" 27% оптимистов, так или иначе ожидавших заметного повышения своего благосостояния (остальные 50% не ожидали каких-либо заметных изменений в своем материальном положении). Как видим, в 1997 году, примерно за год до обвала курса рубля и последовавшего за этим затяжного кризиса, у нас уже возникала ситуация относительного преобладания индивидуального экономического оптимизма. Однако продлилось оно весьма недолго и было значительно менее выраженным, чем нынешнее. Тогда количество оптимистов едва превышало четверть всех опрошенных (27%), сейчас в некоторых замерах оно превышает 40-процентную отметку. Тогда пессимисты также составляли почти четверть (23%) всех опрошенных; сейчас - почти вдвое меньше, 12-13, максимум 15%. Понятно, что предрасположенность той или другой социальной группы к позитивному или негативному видению индивидуальных перспектив отдельным показателем численности (доли в %%) "оптимистов" (или "пессимистов") описывается недостаточно полно. Для обобщения частных характеристик пессимизма/оптимизма можно воспользоваться применявшимся в предыдущих наших работах информационно более емким показателем предрасположенности социальной группы к позитивному или негативному видению индивидуальных перспектив. Этот показатель агрегирует два отдельных показателя в обобщенный, имеющий вид частного от деления численности "пессимистов" на численность "оптимистов" [30]. Поскольку в числителе этого показателя находится количество "пессимистов", то абсолютное значение выше единицы означает преимущественное тяготение группы к пессимистическому видению индивидуальных экономических перспектив, или просто к пессимизму; а значение меньше единицы свидетельствует о тяготении группы к оптимистическому видению. В 1997 году, когда ними был предложен этот показатель измерения группового оптимизма/пессимизма [29], во всей совокупности опрошенных общая численность "пессимистов" не очень сильно отличалась от численности "оптимистов", и среднее значение показателя "пессимизма" в ней было несколько ниже единицы: 23%/27%=0,85. Такое значение нашего показателя характеризовало относительно благополучную ситуацию в начале осени 1997 года. До августовского обвала рубля оставалось чуть менее года. Через год после августовского кризиса, осенью 1999 года, общая численность "пессимистов" почти в полтора раза превышала численность "оптимистов", и значение показателя "пессимизма" привычно поднялось над единицей: 28,5%/20,5%= 1,39. Но это была далеко не самая пессимистическая точка последнего десятилетия. Напомним, что осенью 1991 года индекс индивидуального экономического пессимизма в этом же регионе был почти втрое больше - 4,17 (60%/14,5%), а в январе 1992 года (сразу после "освобождения цен") достигал 4,69 (61%/13%). Аналогичная картина наблюдалась и в Санкт-Петербурге. Таким был пик индивидуального пессимизма не только в этих регионах, но и в целом по России. Так, по данным ВЦИОМ, численность индивидуальных пессимистов, ожидавших падения своего благосостояния, достигла максимума в первой половине 1992 года, после чего наметилась отчетливая тенденция снижения уровня индивидуального пессимизма. В сентябре 1992 года первоначальный шок от столкновения с новой реальностью какой-то частью населения был преодолен, что, в частности, отразилось и в значении анализируемого показателя, опустившегося в Самаре до 3,16 (48,5%/15,5%). До приемлемого уровня благополучия еще было далеко, но пик неблагополучия, как показали дальнейшие наблюдения, не только в Самаре, но и в целом по России остался позади. Весной 1995 года, несмотря на продолжавшийся экономический спад и чеченские события, индивидуального пессимизма стало еще меньше, что отразилось и на значении соответствующего индекса, вплотную приблизившегося к разделительной черте и составившего 1,12 (27%/24%). На этом уровне ситуация как бы замерла, и осенью 1996 года анализируемый показатель был равен 1,08 (23%/21,5%). А еще через год, как свидетельствуют приведенные выше данные, оптимистический настрой, впервые после начала экономических реформ, превысил уровень пессимистического, а значение показателя пессимизма опустилось ниже разделительной черты. Казалось, что период преобладания пессимизма остался позади. Однако версия, экстраполировавшая наметившуюся накануне августа 1998 тенденцию повышения уровня жизни и индивидуального экономического оптимизма значительной части жителей России, не подтвердилась не только в объективных характеристиках изменения реального уровня и качества жизни россиян, но и в их экономических ожиданиях, отражающихся в показателях индивидуального экономического пессимизма/оптимизма. Пессимизм, как свидетельствуют данные всех проведенных за этим опросов, вновь стал доминирующей тенденцией. Лишь в начале 2000 г. значение индекса пессимизма/оптимизма опустилось ниже единицы. В Петербурге (в первом весеннем опросе) значение этого показателя оказалось практически вдвое меньше, чем во время первой "экономической оттепели", и составило всего 0,40 (12,5%/34%); в Самаре - 0,45 (16%/35,5%). Значение этого показателя, полученное в объединенном питерском гиперопросе, и того меньше - 0,31 (12,5%/39,5%). Как видим, изменения общего уровня оптимизма/пессимизма были не всегда однонаправленны и нередко походили на случайные колебания. Но при более внимательном взгляде на этот ряд показателей можно заметить, как минимум, три вполне отчетливые тенденции. Во-первых, за внешне несколько хаотичными колебаниями индивидуального оптимизма/пессимизма жителей Петербурга и Самары просматривалась некоторая сезонная составляющая, согласно которой уровень оптимизма осенью (в октябре-ноябре), как правило, начинает понижаться и до февраля-марта находится на своем циклическом минимуме; после чего обозначается его весенне-летнее повышение, продолжающееся вплоть до завершения этого цикла в октябре-ноябре. Во-вторых, колебания относительной численности оптимистов, ожидающих повышения своего благосостояния, обнаруживают и определенную синхронность с изменениями макроэкономической и политической ситуации в стране. Ухудшение экономической ситуации, инфляция или увеличение политической неопределенности ведет к повышению численности пессимистов (наиболее яркие проявления: январь 1992 и сентябрь 1998 года); понижение темпов инфляции и уровня политической напряженности, как и другие симптомы улучшения общей экономической ситуации, порождают противоположные тенденции - снижение уровня индивидуального пессимизма. И, наконец, если отвлечься от сезонных и частных колебаний и обратиться к общей траектории индивидуального экономического оптимизма/пессимизма, то мы увидим, что фиксируемая нами численность пессимистов, опасающихся ухудшения своего благосостояния, очень медленно, но неуклонно сокращается. Осенью 1991 года количество пессимистов достигало 60%; в 1992 году - 55% (61% в начале и 48% в конце года); в 1993 году - 49%; в 1995 году - 27%; в 1997 году - 23%. Через десять лет после начала экономических преобразований в Самаре и Петербурге осталось лишь 12-13% пессимистов, опасающихся ухудшения своего материального благосостояния. Конечно, на первый взгляд, основной скачок в сокращении количества пессимистов приходится на последний (2000) год. Однако более внимательный анализ показывает, что нынешнее сокращение количества индивидуальных пессимистов никак нельзя назвать одномоментным, оно подготовлено не только всем десятилетним периодом "внешних" экономических трансформаций, но и внутренними изменениями в мировосприятии и освоении новых социальных навыков значительной частью российского населения. При этом, несмотря на то, что нынешний уровень индивидуального пессимизма/оптимизма заметно отличается от того, который был зафиксирован в предыдущие годы, основные закономерности его дифференциации в различных социальных группах остались практически неизменными. Это обстоятельство сохраняет актуальность не только простого наблюдения и фиксации дальнейшей траектории индивидуального оптимизма/пессимизма в различных социально-экономических группах, но и углубления анализа взаимосвязи индивидуального оптимизма/пессимизма с различными характеристиками реального (объективного) экономического положения и пространством ценностно-нормативных координат социального сознания в трансформирующемся обществе. В первую очередь это относится к возрастной (или когортной) дифференциации индивидуального пессимизма/оптимизма. 4. Возрастные и когортные различия оптимизма/пессимизмаПривычный "советский" взгляд на становление экономической независимости человека в обществе предполагает, что уровень его материального благополучия растет по мере его профессионального становления и карьеры, которая почти до выхода на пенсию идет по восходящей. Почти синхронно с этим изменяется и его индивидуальный экономический оптимизм/пессимизм. Однако данные всех наших замеров последнего десятилетия однозначно опровергают эту, казалось бы, вполне естественную версию. Так, например, в 1997 году, когда нами впервые было обнаружено общее преобладание индивидуального оптимизма, пессимистов, опасавшихся падения своего благополучия, среди тех, кто моложе 25 лет, было лишь 8% (при средних для всех опрошенных 23%). В следующей возрастной группе (между 25 и 35 годами) таких пессимистов было уже 12%; а среди людей "среднего возраста" (между 35 и 45 годами) - 23%. В предпенсионной группе (от 45 до 60 лет) численность "индивидуальных пессимистов" достигала трети - 32%; а среди наиболее пожилых (старше 60 лет) - уже 40%, то есть почти вдвое больше, чем в целом среди всех опрошенных, и ровно в пять раз больше, нежели среди самых молодых [31]. Осенью 1999 года, при том, что общая численность пессимистов, опасавшихся падения своего благополучия, выросла с 23% до 28,5%, среди самых молодых (до 25 лет) их, как и два года назад, оказалось примерно втрое меньше среднего. Главное же, - во всех последующих возрастных группах, как и два года назад, отчетливо наблюдается рост численности индивидуальных пессимистов (см. таблицу 1). Таблица 1
R =-0.236 Диаметрально противоположная ситуация - с показателями индивидуального экономического оптимизма. В 1997 году среди молодежи, не перешагнувшей порог своего двадцатипятилетия, повышения своего материального благополучия ожидал практически каждый второй - 49%. В следующей возрастной группе таких индивидуальных оптимистов было лишь около трети - 34%, а среди людей "среднего возраста" (от 35 до 45 лет) - только четверть (25%). В предпенсионной группе (от 45 до 60 лет) численность "индивидуальных оптимистов" сократилась до 17%; а среди наиболее пожилых (старше 60 лет) на них приходилось лишь 10%. То есть чуть ли не втрое (в 2,7 раза) меньше, чем среди всех опрошенных; и практически в пять раз меньше, нежели среди самых молодых. Эта же закономерность, как видно из таблицы 1, воспроизвелась спустя два года. Таблица 2
R =-0.289 Как видно из таблицы 2, и в 2000 году среди наиболее молодых петербуржцев индивидуальных оптимистов, ожидающих повышения своего благосостояния, в семь-восемь раз больше, чем их антиподов, оценивающих свои индивидуальные перспективы пессимистически. Особенно заметно преобладание оптимистов в группе 20-24-летних - тех, кто родился между 1976 и 1981 годами. Среди тех, кому еще нет 20 (родившихся после 1981 года), оптимизм по поводу скорого повышения своего материального благосостояния пока не так сильно выражен, поскольку многие из них еще учатся. Однако и среди тех, кому сейчас меньше сорока (родившихся после 1960 года), оптимистов в пять с лишним раз больше чем их антиподов. Среди тех, кому сейчас за сорок (родившихся раньше появления торжественной декларации о том, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"), относительное количество оптимистов сокращается (по сравнению с самыми молодыми) примерно в полтора раза. Если среди самых молодых их свыше половины, то среди перешагнувших сорокалетие - менее трети. Понятно, что в определенном смысле оптимистический взгляд на мир и собственное будущее молодым обычно присущ в большей мере, нежели более пожилым людям. Однако, как уже отмечалось ранее, такой разрыв уровней оптимизма/пессимизма молодежи и старших поколений в относительно стабильный период был бы невозможен. Траектория жизненной карьеры в стабильном обществе обычно описывалась достаточно пологой кривой, которая более чем плавно (то есть очень медленно) повышала благосостояние среднего человека от его ранней молодости вплоть до примерно 45-50-летнего рубежа (вариации, как правило, определялись гендерными, профессиональными и образовательными различиями). После этого экономическое положение человека (а с ним и его видение ближайшей перспективы) обычно стабилизировалось, и лишь в районе выхода на пенсию (на рубеже шестидесятилетия) начиналось еще более медленное, нежели предыдущий подъем, плавное понижение кривой экономического благополучия [32]. Ситуация, наблюдаемая в последние годы, определялась не только и даже не столько общим экономическим кризисом и падением уровня национального дохода, приходящегося на среднего россиянина, сколько общим изменением механизмов социальной, и в том числе экономической жизни. Это и предопределило не просто изменение, но подчас и полную смену правил социального, особенно экономического поведения, а вместе с тем и навыков, необходимых для выживания отдельно взятого человека. Такая ситуация потребовала от человека не просто освоения новых навыков, но и, что крайне тяжело, отказа от старых, ранее приобретенных. Тех навыков, которые еще относительно недавно вполне обеспечивали существование, а подчас и относительное преуспеяние. Понятно, что этот "налог прошлого" платят лишь успевшие освоить социальные нормы и жизненные навыки в условиях действия старых социально-экономических механизмов. От этой платы практически полностью освобождены те, чья базовая структура личности формируется в естественном процессе социализации в настоящее время. Но чем большим опытом использования ранее приобретенных навыков и ценностно-нормативных представлений обладает отдельно взятый человек, тем, при прочих равных, труднее ему отказаться от них, а значит, и освоить новые, адекватные нынешним условиям жизни. Именно поэтому так контрастен сейчас оптимизм молодежи (практически полностью свободной от необходимости отказываться от груза неприемлемых в новых условиях представлений и навыков). Ведь он наблюдается на фоне пессимизма пожилых людей, на слабеющие плечи которых давит не только необходимость освоения новых норм и навыков социальной и экономической жизни, но и груз старых, хорошо зарекомендовавших себя раньше, но в большинстве своем неприемлемых сейчас социальных навыков и стереотипов. И ко всему этому добавляется естественное возрастное усиление ригидности (снижение лабильности). Оснований для взлета пессимизма у пожилых людей более чем достаточно. Что и подтверждают многочисленные данные, устойчиво получаемые в последние годы [33]. Причем данные эти свидетельствуют не столько о возрастных различиях оптимизма/пессимизма, сколько о социальных - поколенческих, несущих в себе печать перехода от одной системы социально-экономических отношений к другой. Известно, что те или иные системы ценностей интернализируются и устойчиво воспроизводятся личностью не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они обеспечивают этой личности выработку и реализацию собственных целей и программ. Существуют веские причины для того, чтобы в условиях стабилизации новой системы различия эти существенно сгладились. И первое из них заключается в том, что на всем протяжении рассматриваемого периода изменялись не только общие характеристики индивидуального экономического оптимизма/пессимизма, но характеристики готовности людей к принятию на себя преимущественной ответственности за свою судьбу, и в частности, за свое материальное благополучие. 5. Общие изменения атрибуции ответственностиНа протяжении последних десяти лет (с осени 1991 года) Центр изучения и прогнозирования социальных процессов в рамках долговременной программы исследования трансформации общественного сознания периодически обращается к жителям Петербурга с одним и тем же вопросом: "Как Вы полагаете, Ваше материальное благополучие по преимуществу зависит от Вас или от внешних обстоятельств (других людей, начальства и т.п.)?" В каждом из таких репрезентативных для Петербурга "замеров" атрибуции экономической ответственности нами опрашивается не менее 2500 респондентов. Это позволяет получить надежные данные об интересующих нас характеристиках населения города и о соответствующих характеристиках основных социально-демографических и социально-экономических групп этого населения. В нынешнем (2000) году нами проведено четыре опроса, посвященных обсуждаемой теме. В каждом из них, по установившейся традиции (точнее, по принятой программе), было опрошено примерно по 2500 человек. Поскольку данные, полученные в каждом из этих репрезентативных для города опросов, достаточно близки между собой, мы сочли возможным объединить все четыре полученных массива данных в один, общая численность которого составила около десяти тысяч человек. Как свидетельствуют полученные данные, в нынешнем (2000) году немногим менее половины - 46,5% - взрослых жителей Санкт-Петербурга основную или преимущественную ответственность за сложившийся у них уровень материального благополучия приписывали внешним по отношению к себе обстоятельствам. Около трети - 32% - основную часть ответственности принимали на себя, а остальные - 21,5% - склонны были разделить ее между собой и внешними обстоятельствами поровну. Напомним, что десять лет назад, в январе 1992 года, численность взрослых горожан, полагавших себя ответственными за свое материальное благополучие, была почти вдвое меньше и составляла всего 17%; а количество отсылающих эту ответственность вовне равнялось 63%. Но уже в феврале 1992 г. мы могли наблюдать некоторые изменения, когда впервые прекратился рост количества отсылающих вовне основную ответственность за свое экономическое положение и обозначилось его понижение. Одновременно приостановилось и сокращение численности принимающих преимущественную ответственность за свое благосостояние на себя. Не исключено, что именно в этот период произошел первый важный поворот в становлении нового сознания. Во всяком случае, в последовавших за этим десятках замеров количество экстерналов уже ни разу не поднималось до отметки, зафиксированной в январе 1992 года. Не опускалась в дальнейшем до этой "рекордной" отметки и численность интерналов. Вместе с тем, дальнейшие изменения локализации ответственности были не столь однозначны и нередко походили на случайные колебания. При более внимательном взгляде на этот ряд показателей можно было заметить, как минимум, три вполне отчетливые тенденции. Во-первых, за внешне несколько хаотичными колебаниями общей интра-экстернальности жителей Петербурга просматривалась некоторая сезонная составляющая, согласно которой уровень интернальности осенью (в октябре-ноябре), как правило, начинает понижаться и до февраля-марта находится на своем циклическом минимуме; после чего обозначается его весенне-летнее повышение, продолжающееся вплоть до завершения этого цикла в октябре-ноябре. Во-вторых, колебания относительной численности интерналов, принимающих на себя преимущественную ответственность за свое материальное положение, обнаруживают и определенную синхронность с изменениями макроэкономической и политической ситуации в стране. Ухудшение экономической ситуации, инфляция или увеличение политической неопределенности ведут к повышению численности отсылающих ответственность вовне; понижение темпов инфляции и уровня политической напряженности порождают противоположные тенденции в атрибуции ответственности. И наконец, если усреднить сезонные и частные колебания и обратиться к среднегодовым показателям, то мы увидим, что численность отсылающих ответственность за свое экономическое положение вовне очень медленно, но неуклонно сокращается. Если в 1991 году она составляла в среднем 53%, то в 1992 году - 52%, в 1993 году - 49%, а спустя десять лет после начала экономических преобразований в нашем городе осталось лишь 46,5% экстерналов. Общее уменьшение всего на пять-шесть процентов можно было бы принять за незначимое, если бы все эти показатели не выстраивались в относительно пологую, но все же однонаправленную кривую, и за каждым из среднегодовых показателей не стояли десятитысячные совокупности суммарных (годовых) выборок. Для таких объемных совокупностей даже однопроцентное различие статистически значимо на уровне р>0,95. Столь же однозначна тенденция расширения круга интерналов, признающих свою преимущественную ответственность за собственное материальное благополучие. Средняя их численность в 1991 году составила 22%, в 1992 году – 25%, в 1993 - уже 26%, а в нынешнем (2000) году мы обнаружили в нашем городе уже 32% интерналов. Как видим, численность принимающих на себя преимущественную ответственность за последние десять лет выросла ровно на 10%, или почти в полтора раза, по сравнению с исходным уровнем. Общая атрибуция ответственности той или иной социальной группы характеризуется как относительной численностью отсылающих ответственность за свое материальное благополучие вовне, так и количеством их антиподов, принимающих ее по преимуществу на себя Так как обе эти части меньше общей совокупности на количество делящих ответственность между собой и внешними обстоятельствами примерно поровну, то групповая атрибуция ответственности более емко может быть выражена через показатель (индекс), выражающий соотношение численности антиподов. Показатель интернальности атрибуции ответственности (индекс интернальности) - отношение численности принимающих ответственность за свое материальное положение на себя к количеству отсылающих ее вовне - будет тем выше, чем больше будет числитель (количество интерналов); и тем ниже, чем больше знаменатель (количество экстерналов). Теоретически область изменения этого показателя находится в пределах от нуля до плюс бесконечности. Однако, поскольку принимающие ответственность на себя - пока еще явление более редкое, чем их антиподы, и общая численность интерналов пока еще меньше численности отсылающих ответственность за свое благополучие к внешним обстоятельствам, постольку общий (городской) индекс интернальности атрибуции ответственности, как правило, варьирует в области ниже единицы. В 1991 году среднегодовой показатель интернальности равнялся в Петербурге 0.41; в 1992 году - 0.48; в 1993 он поднялся до 0,53, а в нынешнем 2000 году достиг 0.69.Как видим, и здесь показатели выстраиваются в относительно пологую, но все же неуклонно повышающуюся кривую. 6. Возрастные и когортные различия атрибуции ответственностиТрадиционный взгляд на становление экономической независимости человека в нашем обществе предполагает, что степень принятия им ответственности за свое материальное положение растет по мере его профессионального становления и карьеры, которая почти до выхода на пенсию идет по восходящей. Однако данные всех наших замеров однозначно опровергают эту, казалось бы, вполне естественную версию. Таблица 3
Как видно из таблицы 3, в данных, характеризующих ситуацию 2000 года, легко прослеживается буквально противоположная тенденция. Среди наиболее молодых петербуржцев, интерналов, принимающих на себя преимущественную ответственность за свое материальное благополучие, уже сейчас заметно больше, чем их антиподов, отсылающих к внешним обстоятельствам большую часть ответственности за свое благосостояние. Особенно заметно преобладание интерналов в группе тех, кто родился между 1976 и 1981 годами (среди тех, кто родился после 1981 года, оно пока не так сильно выражено, поскольку многие из них еще учатся). Однако и среди родившихся после 1960 года (кому сейчас меньше сорока) интерналы так же заметно преобладают над экстерналами. Но уже среди тех, кто родился раньше появления торжественной декларации о том, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" (кому сейчас за сорок), количество интерналов сокращается до трети, что заметно меньше, чем их антиподов. В каждой следующей возрастной группе интерналов (принимающих на себя преимущественную ответственность за свое благополучие) все меньше и меньше, а среди родившихся в довоенные годы (кому сегодня за шестьдесят) их около одной десятой. При этом экстерналы (отсылающие к внешним обстоятельствам большую часть ответственности за свое благосостояние) составляют тут почти четыре пятых. Еще контрастней межпоколенные различия крайней экстернальности (по относительной численности тех, кто отсылает к внешним обстоятельствам не просто большую, а основную часть ответственности за свое благосостояние). Если среди не достигших своего сорокалетия численность крайних экстерналов находится в пределах 14-15%, то группе 40-49 лет их уже 23%, в группе 50-54 года - 27%, в группе 55-59 лет - 40%, а среди тех, кому за 60, они составляют уже почти три пятых - 59%. Аналогичные тенденции обнаружились уже в данных 1991 года. В дальнейшем во всех без исключения наших замерах (напомним, что в каждом из них опрашивалось не менее двух с половиной тысячи человек) количество принимающих ответственность за свое материальное положение на себя среди молодежи было значимо больше, чем среди людей более старшего возраста. В 1991 году среди наиболее молодых (в возрасте до 30 лет) было в среднем 30% интерналов. В возрастной группе от 30 до 45 лет их было 26%; в возрасте до 60 лет - 18%; а среди тех, кому за 60 лет, - лишь 14%. Та же картина повторилась и в 1992 году. Среднегодовые показатели численности интерналов в приведенных возрастных группах составили, соответственно: 35, 29, 22 и 10%. В 1993 году этот ряд выглядел так: 41, 27, 22 и 14%. В целом, как видим, чем старше человек, тем меньше вероятность того, что он обладает внутренней атрибуцией ответственности. Обратим внимание, что во всех приведенных данных количество интерналов среди людей в возрасте до 30 лет минимум вдвое выше, чем среди тех, кому за 60. За прошедшие десять лет во всех возрастных группах, родившихся до 1960 года, доля людей с внутренней атрибуцией ответственности или росла относительно медленно, или вовсе сохранялась примерно на одном уровне. При этом среди тех, кто родился после первого полета человека в космос, численность интерналов выросла с 30% в 1991 году до 41% в 1993 и до 45% в 2000 году. Как видим, молодежь сейчас является не только наиболее интернальной возрастной группой, но и общая тенденция роста численности людей с внутренней атрибуцией ответственности обеспечивается главным образом за счет той же возрастной когорты. Не менее отчетлива тенденция увеличения с возрастом численности тех, кто большую часть ответственности за свое материальное положение приписывает внешним обстоятельствам. Если в поколениях, чье рождение пришлось на семидесятые годы и позже, экстерналов (отсылающих к внешним обстоятельствам большую часть ответственности за свое благосостояние) во всех опросах заметно меньше половины, то среди людей, родившихся в сороковые годы и раньше, таких не менее двух третьих. В 1991 году среди наиболее молодых было в среднем 45% экстерналов. В возрастной группе от 30 до 45 лет их было уже 49%; в возрасте до 60 лет - 57%; а среди тех, кому за 60 лет - 67%. Аналогичная закономерность повторилась в 1992 году. Среднегодовые показатели численности экстерналов составили, соответственно: 40, 48, 54 и 74 %. В 1993 году этот ряд выглядел уже так: 34, 42, 55 и 68 %. Как видим, чем старше человек, тем больше вероятность того, что большую часть ответственности за свое благополучие он приписывает внешним для себя жизненным обстоятельствам. За десять лет во всех группах родившихся до начала массовых закупок зерна за рубежом, доля людей с внешней атрибуцией ответственности сокращалась относительно медленно, а у довоенных поколений, и вовсе сохранилась примерно на том же уровне. При этом среди молодежи в возрасте до 30 лет количество экстерналов сократилась с 45% в 1991 году до 34% в 2000 году. Иначе говоря, для людей родившихся в последние 40 лет внешняя атрибуция ответственности не только менее характерна, но и общая тенденция сокращения внешней атрибуции обеспечивается главным образом за счет этого поколения. Если в возрасте до 30 лет на одного признающего основную ответственность за свое благополучие приходится примерно столько же (или немного больше) отсылающих ее к внешним обстоятельствам, то среди тех, кому за 60 лет, на одного интернала приходится почти пять экстерналов. В 1991 году средний индекс интернальности атрибуции ответственности у наиболее молодых равнялся 0,67. В возрастной группе от 30 до 45 лет он составил уже 0,53; в возрасте до 60 лет - 0,32; а у тех, кому за 60 лет, - 0,21. Аналогичную тенденцию мы видели и в 1992 году. Среднегодовые показатели интернальности составили тогда соответственно - 0.88, 0.58, 0.41 и 0,13. В 1993 году: 1,34; 0,64; 0,40; и 0,21. В нынешнем 2000 году этот ряд выглядел уже так: 1,45; 1,22; 0,66 и 0,15. Как видим, за последние десять лет во всех группах, родившихся раньше шестидесятых годов, показатель интернальности атрибуции ответственности рос относительно медленно или сохранялся примерно на том же уровне. У довоенного поколения (среди тех, кто родился до Второй мировой войны) этот показатель равен сейчас 0,15; при том, что десять лет назад он находился примерно на том же уровне (0,20-0,25). А среди тех, кто родился после первых полетов в космос, этот показатель вырос почти вдвое и в 2000 году заметно превысил единицу. Это значит, что среди поколений, завершавших свое образование после начала "перестройки", численность интерналов стала больше количества их антиподов. Для этого поколения внешняя атрибуция ответственности уже менее характерна, чем многовековая традиция (продолжающая и сейчас доминировать в нашем обществе) отсылать большую часть (а то всю) ответственности за благополучие отдельного человека к внешним, не зависящим от него обстоятельствам. 7. Устойчивые тенденцииИндивидуальное сознание постоянно находится под влиянием информации, актуально присутствующей в социуме и воздействующей на сознание и поведение индивида. Воздействие это может осуществляться, в частности, и через неконтакную ретрансляцию и воспроизводство групповых норм "рационального" восприятия различных элементов реальности, а также нормативов ценностного отношения к ним. Присутствие такого воздействия нельзя не заметить в гендерных различиях индивидуального оптимизма-пессимизма. В 2000 году в Петербурге среди мужчин обнаружилось 11,5% пессимистов, опасающихся снижения уровня своего материального благополучия, тогда как среди женщин их оказалось несколько больше - 13%. Различие минимальное, но тем не менее статистически значимое (напомним, что эти данные получены на объединенном массиве питерского "гиперопроса", содержавшего почти десять тысяч единиц наблюдения). Еще заметнее отличаются мужчины по частоте встречающихся среди них индивидуальных оптимистов. Если среди женщин оптимисты составили 37,5%, то среди мужчин - 42%. При этом женский индекс индивидуального экономического пессимизма почти в полтора раза выше мужского - 0,35 (13,0%/37,5%) против 0,27 (11,5%/42%). Аналогичное соотношение мужского и женского пессимизма/оптимизма было зафиксировано в это время (весной 2000 года) и в Самаре. Правда, по относительно численности индивидуальных пессимистов самарские мужчины и женщин практически не различались - у тех и других весной 2000 года было по 13,5% опасавшихся понижения уровня своего благосостояния. Однако по численности индивидуальных оптимистов самарские мужчины, точно так же как питерские, своих женщин заметно превзошли: 38,5% против 30,5%. Но в той же Самаре за полгода до этого (осенью 1999 года) общая численность индивидуальных пессимистов среди мужчин еще мало отличалась от численности их прямых антиподов, ожидавших повышения своего благосостояния - 26% против 24%. Другое дело женщины, где на 30% опасавшихся ухудшения своего положения приходилось лишь 17,5% оптимисток. Индекс индивидуального пессимизма мужчин составил 1,08 (26%/24%), у женщин - 1,71 (30%/17,5%). За два года до этого, в 1997 году, среди мужчин на 18% пессимистов приходилось 32% их антиподов, в то время как среди женщин ситуация была почти противоположной. Оптимистов тут было просто меньше: на 23% этого "меньшинства" приходилось 27% опасавшихся ухудшения своего благосостояния. Если для мужчин агрегированный показатель пессимизма в 1997 году был много ниже единицы - 0,56 (18%/32%), то для женщин он был не только заметно выше этой разделительной черты, но и в два с лишним раза выше, чем у мужчин, а именно - 1,17 (27%/23%). Об относительной экономической депривации женщин в нынешних условиях известно достаточно много, и пытаться опровергнуть этот факт просто бессмысленно. Тем не менее, как свидетельствует статистика, подавляющее большинство женщин (как, впрочем, и мужчин) является членами семей, вторую половину (или иную часть) которых составляют мужчины, в большинстве своем ожидающие повышения своего индивидуального, а значит и семейного, благополучия. Семьи, в которых одна половина уверенно повышает свое благосостояние, в то время как другая ее часть движется в противоположном направлении, если и существуют в нашей действительности, то скорее как достаточно редкая девиация. Если же гендерную контрастность индивидуального оптимизма/пессимизма принять за свидетельство "материальной" (а не психической и социальной) реальности, то одновременно придется признать и то, что вышеописанная семейная девиация существует как статистическая норма. Если же это не так, то повышенный женский пессимизм, скорее всего, является еще одним проявлением хорошо известной психологам повышенной "женской" тревожности и, не исключено, - свидетельством женской социальной нормы восприятия будущего. В то же время, нельзя не заметить тенденции к унификации этих норм. Таблица 4
Различиями перспектив изменений реальных доходов определена и дифференциация пессимизма/оптимизма в социально-экономических группах занятости. Как видно из таблицы 4, индивидуальный оптимизм тех, кто занят в частном секторе экономики, заметно превосходит не только оптимизм работников бюджетных организаций, но и оптимизм работников недавно акционированных предприятий. Если среди работников частных предприятий повышения своего благосостояния ожидает практически каждый второй (49,6%), то среди занятых в других секторах экономики такой оптимизм встречается почти в полтора раза реже, а индекс индивидуального пессимизма примерно вдвое выше. Нельзя не заметить того, что индивидуальный оптимизм работников акционированных предприятий существенно уступает оптимизму занятых в изначально частном секторе. Похоже, что акционирование экономики пока еще не дало ее работникам даже той уверенности в завтрашнем дне, которую еще сохраняют (или уже приобрели) нынешние государственные служащие и прочие "бюджетники". Это, однако, не должно создавать иллюзий, что частная экономика не может в нынешних российских условиях проявить своих преимуществ. Может, и уже проявляет. Но не та промежуточная, к которой пока относится большая часть недавно акционированных предприятий, а собственно частная, не несущая в себе "родимых пятен" своего социалистического прошлого. В 1997, и в 1999 году экономический пессимизм занятых на государственных предприятиях также был ниже, чем у работников относительно недавно акционированных производств. Среди занятых в собственно частной экономике (в большинстве своем работающих там по найму) численность индивидуальных экономических оптимистов была почти на четверть больше численности их антиподов, о чем и свидетельствует соответствующий показатель - 0,80 (21.5%/26.8%). В 1997 году среди занятых в частной экономике веривших в близкое повышение своего благосостояния было ровно в три раза больше, чем их антиподов, а соответствующий показатель равнялся 0,33 (13%/39%). По общероссийским данным ВЦИОМ, численность индивидуальных экономических оптимистов, ожидавших тогда улучшения своего материального положения, среди занятых в частной экономике была в два с лишним раза выше, чем среди работников государственных предприятий и учреждений. Конечно после "дефолта" и среди "частников" оптимизма заметно поубавилось. Но и в 1999 году среди занятых в частной экономке, несмотря на общее понижение экономического оптимизма, он по-прежнему преобладал. Таблица 5
Наиболее контрастно преобладание индивидуального оптимизма среди учащихся. В Петербурге в 2000 году, как можно увидеть по таблице 4, на каждого пессимиста, опасающегося ухудшения своего материального благосостояния, приходится примерно восемь ожидавших повышения своего благосостояния. В это же время (весной 2000 года) примерно такое же соотношение оптимистов и пессимистов было зафиксировано и в Самаре. За полгода до этого (осенью 1999 года) среди самарских учащихся на одного пессимиста, опасавшегося понижения своего благополучия, приходилось втрое больше ожидавших прямо противоположного. Об этом свидетельствует показатель индивидуального пессимизма - 0,35 (11,5%/32,7%), ненамного отличающийся от аналогичного показателя, полученного на данных 1997 года, - 0,23 (10%/43%). У неработающих пенсионеров восприятие своих экономических перспектив не столь позитивно. Правда, в 2000 году и среди них оптимисты по своей численности почти в полтора раза превосходят своих антиподов. Не исключено, что это отзвук серии инициированных новым президентом повышений размеров пенсий. Но еще совсем недавно ситуация была прямо противоположной. Осенью 1999 года у пенсионеров на 44% индивидуальных экономических пессимистов приходилось чуть ли не вчетверо меньшая численность их антиподов, что и отразилось в соответствующем показателе пессимизма этой группы - 3,52 (44,0%/12,5%). В 1997 году численность индивидуальных экономических пессимистов, опасавшихся дальнейшего ухудшения своего материального положения, составляла здесь 41%, то есть отличалась от 1999 года на величину стандартной ошибки измерения. В то же время численность оптимистов, веривших в близкое повышение своего материального благосостояния, составляла 12%, то есть практически не отличалась от 1999 года. Мало отличался и агрегированный показатель пессимизма - 3,42 (41%/12%). Однако, общий уровень индивидуального пессимизма в 1999 году был заметно выше, чем в 1997 году (1,39 против 0,85). Похоже, что августовский кризис 1998 года, заметно повысив общий уровень индивидуального экономического пессимизма населения, почти не повлиял на пессимизм неработающих пенсионеров (основной удар этот кризис нанес по-видимому по занятым на акционированных предприятиях, где численность оптимистов упала с 24% до 13%, а индекс пессимизма повысился почти втрое - с 1,0 до 2,81; и по занятым в частной экономике, где численность оптимистов упала с 39% до 26,8%, а индекс пессимизма повысился с 0,33 до 0,80). Обратим внимание на устойчивость другой менее броской закономерности, заслоненной крайне неблагополучной (по сравнению с другими социальными группами) ситуацией у пенсионеров и просто пожилых людей. Среди наиболее пожилых людей, большая часть которых уже не в состоянии работать (и живет, в основном, на свою нынешнюю пенсию, нередко дополняемую разнообразными "вкладами" более молодых членов семьи), численность индивидуальных экономических пессимистов уже несколько лет МЕНЬШЕ суммарной численности тех, кто не ожидает никаких изменений в своем материальном положении, либо даже предполагает его улучшение. Напомним, что численность пессимистов в этой социальной группе осенью 1999 года равнялась 44,1%, что много больше, нежели их прямых антиподов; но остальные 55,9% представителей этой социальной группы, как минимум, не опасались ухудшения своего материального положения. Такая же ситуация отмечалась и в предыдущем исследовании, когда 41% пенсионеров, склонных к индивидуальному пессимизму, "уравновешивались" 59% НЕ опасающихся дальнейшего ухудшения своего материального положения. Чтобы оценить эти не сразу бросающиеся в глаза факты, вспомним общее распределение пессимизма/оптимизма, характеризовавшее в 1991-1992 гг. все население, а не наиболее обездоленную его часть. Тогда общее количество индивидуальных экономических пессимистов, почти панически опасавшихся дальнейшего ухудшения своего и без того резко ухудшившегося положения, вплотную приближалось к ста процентам. Иначе говоря, не только накануне августовского кризиса, но и через год после него экономически наиболее депривированная часть населения (неработающие пенсионеры) оценивала свои перспективы с большим оптимизмом (или, как минимум, с меньшим пессимизмом), чем накануне и в самом начале реформ оценивало свои перспективы все население региона. 8. Воронка катастрофизмаПредставление отдельного человека о перспективах своего индивидуального экономического положения опирается на учет не только собственного экономического потенциала. Как правило, оно формируется и существует в контексте представлений и гипотез о перспективах развития достаточно широкого круга значимых для этого внешних обстоятельств. С целью выявления взаимосвязи индивидуального пессимизма/оптимизма с релевантным социальным контекстом мы попытались в 1999 году, наряду с представлением опрашиваемых о своих индивидуальных экономических перспективах (их индивидуальном пессимизме/оптимизме), выявить и представление об аналогичных перспективах окружающих их людей, а также о перспективах развития экономической ситуации в городе и, наконец, - о перспективах развития экономической ситуации в стране. Как мы помним, оценивая свои индивидуальные экономические перспективы в 1999 году, примерно половина (51%) опрошенных высказали предположение о том, что в ближайшее время их материальное положение скорее всего никак не изменится. Экономические перспективы окружающих в представлении тех же респондентов были еще более статичными: почти две трети (64,5%) опрошенных полагали, что материальное положение большинства окружающих их людей в ближайшее время практически никак не изменится. Предполагал некоторое ухудшение экономического положения окружающих примерно каждый пятый (19,5%), и лишь один из двадцати (5%) полагал, что ухудшение может быть весьма заметным. В целом, 24,5% "локальных пессимистов", так или иначе опасавшихся ухудшения материального положения окружающих, противостояли 10,9% (то есть в два с лишним раза меньше) "локальных оптимистов", с той или иной уверенностью предполагавших повышение благосостояния большинства окружающих их людей. Ожидания стабильности (неизменности) преобладали и по отношению к экономической ситуации в городе, и по отношению к экономической ситуации в стране. Однако если на фоне первой половины ожидавших экономической стабильности в городе во второй половине ожидания негативных и позитивных изменений почти уравновешивали друг друга (26% против 24,5%), то по отношению к перспективам экономической ситуации в стране такая сбалансированность отсутствовала. Количество социальных пессимистов, ожидавших дальнейшего ухудшения общей экономической ситуации в стране, не только в два с половиной раза превосходило численность социальных оптимистов (о чем говорит значение индекса социального пессимизма, рассчитанного через отношение полюсов - 2.58), но и приближалось к численности ожидавших сохранения стабильности (неизменности) нынешнего экономического положения в стране (40,2% против 44,2%). Иначе говоря, уровень оптимизма по отношению к экономической ситуации в своем почти двухмиллионном городе у жителей Самары значительно превосходил сложившийся к 1999 году уровень их социального оптимизма по отношению к общей экономической ситуации в стране. Похоже, что здесь мы столкнулись с одним из проявлений эффекта расширяющейся негативной воронки - следствием воздействия нынешних средств массовой коммуникации, отмечавшимся ранее не только нами. Суть этого эффекта заключается в том, что чем дальше от собственного опыта взаимодействия с оцениваемым социальным объектом находится современный российский "наблюдатель", оценивающий этот объект, чем больше его представление об этом объекте опосредуется информацией и сообщениями средств массовой коммуникации, тем негативней его оценка состояния этого объекта. О существовании этого эффекта свидетельствовал не только более высокий уровень (по сравнению с индивидуальным и локальным) социального пессимизма, но и то, что средние оценки индивидуального или семейного благополучия (основанные на собственном опыте оценивающего), как правило, были заметно выше средних оценок более общей социальной ситуации (представление о которой, как правило, формируется на основе различных сообщений средств массовой коммуникации). Точно так же формирование представлений горожанина о ситуации в относительно более узкой локальности - городе - с его собственным опытом связано, как правило, заметно сильнее, чем формирование его представлений о ситуации в более широком социальном пространстве - стране. Этот эффект негативно расширяющейся воронки неоднократно фиксировался в различных исследованиях. Однако представляется, что, несмотря на его воспроизводимость, он отнюдь не универсален для всех состояний социального сознания. В нашем недавнем социалистическом прошлом, как правило, наблюдалась прямо противоположная ситуация, когда под целенаправленным воздействием тотальной партийно-государственной идеологической машины рядовой гражданин видел и понимал "большой мир" (Советский Союз, декларируемые в нем идеи и цели, его основных героев и персонификаторов и т.д.) сквозь призму идеализированных стереотипов о безусловной позитивности этого мира. При этом собственный негативный опыт взаимодействия с частными проявлениями этого "большого мира", сплошь и рядом противоречащий этой общей идеализации, приписывался недостаткам или злому умыслу конкретных персонажей "малого мира", с которыми этому наблюдателю случалось столкнуться, как с досадным исключением из общей закономерности. Рационализация осуществлялась по схеме: "В целом наше общество почти идеально, но у нас в коллективе... (бригаде, на заводе, в городе и т.п.)". Противоречие между весьма заметным (если не преобладающим) в современной массовой коммуникации "катастрофическим сознанием" (версией о надвигающейся на страну катастрофе) и обыденным житейским опытом и практиками подавляющего большинства нынешних россиян нетрудно увидеть и в абсолютных значениях показателей, приведенных выше. Допущение того, что твою семью, окружающих, город или страну в целом ожидает некоторое ухудшение экономической ситуации можно счесть признаком индивидуального или социального пессимизма, но на свидетельство катастрофического сознания такой индикатор определенно не вытягивает. К этому может быть причастно опасение более сильного - явного ухудшения ситуации. Но явного ухудшения своего материального положения даже в 1999 г. опасались лишь 7% опрошенных; аналогичного ухудшения у большинства окружающих- 5%; явного ухудшения экономической ситуации в городе - 6%;, а аналогичного ухудшения ситуации в стране - 9%. 9. Связь индивидуального сознания с различными уровнями социальногоКак видим, индивидуальное сознание упорно сопротивляется навязываемой ему версии о надвигающейся экономической катастрофе, и в своем видении мира и его перспектив опирается по преимуществу на иную оценку фактов своего житейского опыта и практик. Тем не менее, представления о собственных перспективах, как правило, достаточно тесно связаны с представлениями о перспективах окружающих. В 1999 г. почти три четверти (72,3%) ожидавших явного ухудшения материального положения большинства окружающих опасались такого же ухудшения собственного материального положения (обратная зависимость не столь жестка: среди опасавшихся явного ухудшения своего материального положения такого же ухудшения у большинства окружающих опасались лишь около половины - 51%). Почти две трети (63,3%) не ожидавших никаких изменений в материальном положении большинства окружающих не ожидали и изменений в собственном материальном положении. И, наконец, практически две трети (64.9%) ожидавших улучшения материального положения окружающих ожидали такого же улучшения в собственном благополучии (поскольку индивидуальных оптимистов было вдвое больше, чем оптимистов "локальных", то обратная зависимость намного слабее: среди ожидавших повышения своего благосостояния такого же повышения благосостояния окружающих ожидали лишь около трети - 34,5%, тогда как большинство - 58,2% - предчувствававших повышение своего благосостояния полагали, что материальное положение окружающих останется при этом неизменным). Как видим, индивидуальные опасения негативных перспектив экстраполируются на окружающих с большей легкостью, нежели позитивные ожидания. Иначе говоря, индивидуальный пессимизм чреват пессимизмом социальным, тогда как индивидуальный оптимизм еще не делает человека социальным оптимистом. Все эти свидетельства связи индивидуального экономического оптимизма/пессимизма с локальным находят свое обобщенное выражение в значении коэффициента корреляции Спирмена (для порядковых переменных) r = + 0,513. Этот коэффициент фиксирует общую тесноту связи первичного показателя индивидуального оптимизма/пессимизма с показателем ожиданий изменений в ближнем окружении. Связь, как видим, достаточно тесная. Однако не настолько, чтобы содержание, стоящее за каждым из двух показателей, можно было считать тождественным. Представления о собственных перспективах достаточно тесно связаны не только с представлениями о перспективах благосостояния окружающих, но и с представлениями о перспективах экономической ситуации в городе. Свыше половины (54%) ожидающих явного ухудшения экономической ситуации в городе опасаются такого же ухудшения собственного материального положения (обратная зависимость чуть слабее: среди опасающихся явного ухудшения своего материального положения такого же ухудшения ситуации в городе опасаются лишь около половины - 47,5%). Примерно три пятых (59,7%) не ожидающих никаких изменений в городской экономической ситуации не ожидают и изменений в собственном материальном положении. И наконец, двое из пяти (41,8%) ожидающих улучшения городской экономической конъюнктуры ожидают такого же улучшения в собственном благополучии. Как видим, индивидуальные опасения негативных перспектив экстраполируются на окружающую городскую действительность примерно так же, как и позитивные ожидания. Иначе говоря, в отличие от предыдущего случая, индивидуальный пессимизм чреват пессимизмом социальным примерно так же, как индивидуальный оптимизм - социальным оптимизмом. Все эти свидетельства связи индивидуального экономического оптимизма/пессимизма с ограниченным в рамках города социальным находят свое обобщенное выражение в значении коэффициента корреляции Спирмена r =0,405. Связь, как видим, достаточно тесная, однако значительно уступающая рассмотренной выше связи межу индивидуальным оптимизмом/пессимизмом и представлением о перспективах благополучия окружающих. Представления о собственных перспективах с общими представлениями о перспективах развития экономической ситуации в стране - социальным пессимизмом/оптимизмом - связаны еще менее тесно, чем с представлениями о перспективах более близких социальных объектов. Лишь 42,5% ожидающих явного ухудшения экономической ситуации в стране опасаются такого же ухудшения собственного материального положения. Обратная зависимость заметно жестче: среди опасающихся явного ухудшения своего материального положения такого же ухудшения ситуации в России опасаются свыше половины - 55,6%. Менее половины (44,9%) ожидающих улучшения общероссийской экономической конъюнктуры ожидают такого же улучшения в своем собственном благополучии. Поскольку индивидуальных оптимистов несколько больше, чем социальных, то обратная зависимость намного слабее: среди ожидающих повышения своего благосостояния такого же улучшения общероссийской ситуации ожидает лишь около трети - 34,3%, тогда как большинство (43%) предчувствующих повышение своего благосостояния полагают, что экономическая конъюнктура в городе останется неизменной, а почти каждый четвертый (23,2%) допускает, что экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Как видим, индивидуальные опасения негативных перспектив экстраполируются на общую российскую действительность с большей легкостью, нежели позитивные ожидания. Все эти свидетельства связи индивидуального экономического оптимизма/пессимизма с очерченным общероссийскими границами социальным находят свое обобщенное выражение в значении коэффициента корреляции Спирмена r =0,355. Этот коэффициент фиксирует общую тесноту связи первичного показателя индивидуального оптимизма/пессимизма с показателем ожиданий изменений общероссийской экономической ситуации, выступающей общим обстоятельством реализации индивидуального благосостояния индивида. Связь достаточно тесная (r > 0.06 - критическое значение для p > 0.99), однако значительно уступающая рассмотренным выше связям индивидуального оптимизма/пессимизма с локальным и городским. Как видим, собственные представления об объектах и ситуациях, непосредственно присутствующих в жизненном опыте отдельно взятого индивида в их относительно детальной конкретике, равно как и субъективное отношение к этим объектам и ситуациям, могут обнаруживать достаточно высокую степень независимости от ценностно-нормативных координат социальности, в которые погружен данный индивид. Однако это пространство "независимости" у всякого отдельного индивида, как правило, достаточно ограничено. Основная же часть индивидуального сознания находится под непосредственным влиянием информации, актуально присутствующей в социуме и воздействующей на сознание и поведение индивида как через его непосредственное социальное окружение (не пространственное, а именно социальное окружение, включающее совокупность различных референтных групп и "незримых колледжей"), так и через массовые коммуникации. ЗаключениеПодводя итог, напомним основные результаты, зафиксированные в приведенном выше анализе. Период тотального социального стресса от столкновения практически всего российского населения с принципиально новыми условиями постсоветской повседневности для большинства населения в настоящее время остался позади. Пик этого стресса пришелся на конец 1991 - начало 1992 года и был вызван не столько стартом "освобождения цен", сколько не сразу осознанным началом кардинальной трансформации общества, сделавшей значительную часть важнейших навыков и ценностно-нормативных координат, интернализованных в условиях советского образа жизни, непригодными в новых социально-экономических условиях. Изменения общего уровня оптимизма/пессимизма не всегда однонаправленны и нередко походят на случайные колебания. Но более внимательный взгляд на эти колебания позволяет заметить, как минимум, три вполне отчетливые тенденции. Во-первых, за внешне несколько хаотичными колебаниями индивидуального оптимизма/пессимизма просматривается достаточно отчетливая сезонная составляющая, согласно которой уровень оптимизма осенью (в октябре-ноябре), как правило, начинает понижаться и до февраля-марта находится на своем циклическом минимуме; после чего обозначается его весенне-летнее повышение, продолжающееся вплоть до завершения этого цикла в октябре-ноябре. Во-вторых, колебания относительной численности оптимистов, ожидающих повышения своего благосостояния, обнаруживают определенную синхронность и с изменениями макроэкономической и политической ситуации в стране. Ухудшение экономической ситуации, инфляция или увеличение политической неопределенности ведет к повышению численности пессимистов (наиболее яркие проявления: январь 1992 и сентябрь 1998 года); понижение темпов инфляции и уровня политической напряженности, как и другие симптомы улучшения общей экономической ситуации, порождают противоположные тенденции - снижение уровня индивидуального пессимизма. И, наконец, если отвлечься от сезонных и частных колебаний, вызванных изменениями социально-экономической ситуации в обществе, и обратиться к общей траектории индивидуального экономического оптимизма/пессимизма, то мы увидим, что фиксируемая численность пессимистов, опасающихся ухудшения своего благосостояния, очень медленно, но неуклонно сокращается. Осенью 1991 года количество индивидуальных пессимистов достигало 60%; в 1992 году - 55%; в 1993 году - 49%; в 1995 году - 27%; в 1997 году - 23%. В 2000 году, через десять лет после начала экономических преобразований, в наблюдаемых регионах осталось лишь 12-13% пессимистов, опасающихся ухудшения своего материального благосостояния. Процесс освоения навыков, обеспечивающих человеку реализацию его основных (обычных для него) потребностей, и интернализация (освоение) ценностно-нормативных представлений, соответствующих новой формирующейся сейчас действительности, характеризуется сильной социально-структурной дифференциацией. Это проявляется, в первую очередь, в адаптивном противостоянии поколений, чьи повседневные навыки и ценностно-нормативные представления были приобретены и сформированы до начала социальной и экономической трансформации советского общества (в "доперестроечное время"), и поколения, свободного от груза ранее освоенных поведенческих техник и ценностно-нормативных координат, чья первичная социализация происходила и происходит в новых социально-экономических условиях. Одним из наиболее ярких проявлений этого "противостояния" является почти всеобщий экономический оптимизм одних и преобладание пессимизма у других, что свидетельствует об адаптированности первых и адаптационных проблемах последних. Существенное влияние на адаптивный потенциал личности и формирование у нее соответствующих оптимистических (или пессимистических) представлений о собственном будущем оказывает его готовность (или неготовность) к принятию на себя ответственности за свое благосостояние. За последние десять лет во всех группах, родившихся до первых полетов человека в космос, показатель интернальности атрибуции ответственности рос относительно медленно или сохранялся примерно на том же уровне. У довоенного поколения этот показатель находится примерно на том же уровне, что десять лет назад. Среди тех, кто родился после первых полетов в космос, показатель интернальности атрибуции ответственности вырос за это время практически вдвое. Это значит, что среди поколений, завершавших свое образование после начала "перестройки", численность интерналов стала больше количества их антиподов. Для этого поколения уже не характерна многовековая традиция (все еще сохраняющая свое влияние в нашем обществе) отсылать основную ответственность за благополучие отдельного человека к внешним, не зависящим от него обстоятельствам. Существенное влияние на формирование оптимистических представлений о собственном будущем оказывает также близость человека к активной деятельностной практике. Это влияние обнаруживает себя, в частности, в социально-экономической, социально-профессиональной и гендерной дифференциации группового экономического оптимизма/пессимизма. В целом проведенный анализ показывает, что сокращение количества индивидуальных пессимистов подготовлено не только всем десятилетним периодом "внешних" социально-экономических и политических трансформаций, но и внутренними изменениями в мировосприятии и освоении новых социальных навыков значительной частью российского населения. Литература1. Гордон Л.А. Область возможного. М., 1995. С. 192; он же: Общество "недовольных" (Особенности массового сознания в переходный период) // Полис, 1998, N3, сс.32-48; Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями: теоретический анализ// Журнал социологии и социальной антропологии, 1998. Том I,N 2, сс.102-112. Он же: Феноменология надежды//Психологический Журнал, 1999, т. 20, N 3, сс. 18-27. Он же: Измерение надежды// Психологический журнал, 1999,т. 20, N 4, сс. 26-35. 2. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования, 1997, N4, сс. 6-32. Левада Ю.А. Социальные типы переходного периода: попытка характеристики. Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ - Интерцентр - АНХ. М.: Аспект-Пресс, 1997. N 2. Сс. 9-15. Бурмыкина О.Н., Нечаева Н.А. Социокультурные аспекты адаптации населения к рыночной экономике. СПб: СПб филиал Института социологии РАН, 1998. 3. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л., 1983. 4. Goodhart D.E. The effects of positive and negative thinking on performance // Journal of Personal and Social Psychology. 1986. V. 51. P. 117-124. 5. Докторов Б.З. Россия в европейском социокультурном пространстве// Социологические исследования, 1994, N3. Сc. 4-19. Inglehart, R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, 1990; Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, Princeton University Press, 1997; Tellegen, A. Differential Personality Questionnare. University of Minnesota, 1979. 6. Кон И.С. Социология личности. М.: Мысль, 1967. 7. Левада Ю. Пятилетние группы - пятилетние сдвиги (опыт ретроспективного лонгитюда) // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1999, N2, с. 19-24; 8. М.Мацкевич, Л.Кесельман. Изменение политических ориентаций различных социальных групп (по материалам исследований в Москве, Петербурге, Самаре и Кемерове) // Образ мыслей и образ жизни.- М., ИС РАН, 1996, сс.104-146. 9. Ахиезер А.С. Жизнеспособность российского общества// Общественные науки и современность, 1996, N6; Докторов Б.З. Россия в европейском социо культурном пространстве // Социологические исследования, 1994, N3. cc. 4-19; Дубин Б. Группы, институты и массы: культурная репродукция и культурная динамика в сегодняшней России // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения, 1998, N4, с.22-32. 10. Кесельман Л. Социально-структурные особенности адаптации жителей Самары к новым экономическим условиям// Поведение и ценностные ориентации различных социальных групп населения Самары. Информационный бюллетень. - Самара: Самарский областной Фонд социальных исследований, 1995, N6; В.Звоновский, М.Мацкевич. Поведение и ценностные ориентации различных социальных групп населения Санкт-Петербурга и Самары// Ценностные ориентации и социальное поведение в изменяющихся условиях. Региональные аспекты. - Самара, 1995, сс. 44-64. 11. Наумова Н.Ф. Социальная политика в условиях запаздывающей модернизации // Социологический журнал. 1994. N1. Сс. 6-21. Она же: Рецидивирующая модернизация в России как форма развития цивилизации.// Социологический журнал. 1996, N3/4. Сс. 5-28. 12.Головаха Е.И. Панина Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия. Киев: Институт социологии НАН Украины, 1997. 13. Cantril, H. The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1965; Freedman, J. Happy people: What happiness is, who has it, and why. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978. 14. Diener, E. Subjective Well-being// Psychological Bulletin, 1984, Vol.95, N 3, 542-575; Diener, E., Larsen, R.J., & Emmons,R.A. (1984). Person x situation interactions: Choice of situations and congruence response models // Journal of Personality and Social Psychology, 1984. 15. Bradburn, N.M. The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine, 1969; Bradburn, N.M.,& Caplovitz, D. Reports on happiness. Chicago: Aldine, 1965; Cantril, H. The pattern of human concerns. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1965; Maslow, A.H. Motivation and Personality. New York: Harper and Row, 1970. 16. Campbell, A., Converse, P.E., & Rodgers, W.L. The quality of American life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions. New-York: Russel Sage Foundation, 1976; Gallup, G.H. Human needs and satisfactions: A global survey // Public Opinion Quarterly, 1976-1977, 40, 459-467. 17. Человек и его работа / под ред. В.А.Ядова. М.: Мысль, 1967; Китвель Т.О социально-психологических проблемах удовлетворенности трудом. - Таллин: Институт истории АН ЭССР, 1974. С. 134; Социально-психологический портрет инженера/ под ред. В.А.Ядова. М.: Мысль, 1977; Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В.А.Ядова. Л.: Наука, 1979; 18. Социология в России / под ред. В.А.Ядова. М.: На Воробъевых горах, 1996; Алексеев А.Н. Драматическая социология (Эксперимент социолога-рабочего). М.:ИС РАН, 1997. С. 656. 19. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. М.: Наука, 1987; (второе издание) М.:Наука, 1992; Третье, дополненное и исправленное издание. Самара:Самарский университет. 1995; 20. Campbell, A., Converse, P.E., & Rodgers, W.L. The quality of American life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions. New-York: Russel Sage Foundation, 1976; Inglehart, R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, 1990; Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, Princeton University Press, 1997; Tellegen, A. Differential Personality Questionnare. University of Minnesota, 1979. 21. Кесельман Л., Мацкевич М. Вариации на тему оптимизма//"Смена", январь, 1991; они же: За год в Петербурге стало больше "индивидуальных оптимистов" // Санкт-Петербургское Эхо, май, 1993. 22. Зубова Л., Ковалева Н., Красильникова М. Динамика экономического положения россиян//Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1993, N2, Сс. 20-21; Красильникова М., Николаенко С. Индекс потребительских настроений // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1994, N2, С. 46-50; Зубова Л., Ковалева Н. Материальное положение и оценки потребительского рынка //Экономические и социальные перемены. 1995, N 1, Сс. 34-37; Ибрагимова Д., Красильникова М., Николаенко С. Индекс потребительских настроений // Экономические и социальные перемены. 1996, N6, Сс. 36-41. 23. М.Мацкевич. Ряды пессимистов редеют// Рейтинг. 1992, N5. 24. Штомпка П. Социология социальных изменений/ пер.с англ. Под ред. В.А.Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. Сс. 58-59. 25. Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ - Интерцентр - АНХ. М.: Аспект-Пресс, 1997. N 1. Сс. 69-71. 26. Кесельман Л. Социально-структурные особенности адаптации жителей Самары к новым экономическим условиям// Поведение и ценностные ориентации различных социальных групп населения Самары. Информационный бюллетень. Самара: Самарский областной Фонд социальных исследований, 1995, N 6; Звоновский В., Мацкевич М. Поведение и ценностные ориентации различных социальных групп населения Санкт-Петербурга и Самары// Ценностные ориентации и социальное поведение в изменяющихся условиях. Региональные аспекты. Самара, 1995. Мацкевич М., Кесельман Л. Изменение политических ориентаций различных социальных групп (по материалам исследований в Москве, Петербурге, Самаре и Кемерове) // Образ мыслей и образ жизни. М., ИС РАН, 1996. Сс.104-146. 27. Докторов Б.З. Предложения по оплате труда работников участвующих в проведении прикладных социологических исследований М.: ИС АН СССР. 1988. С. 57. 28. Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1981; Паниотто В.И. Качество социологической информации. Киев: Наукова думка, 1986. 29. Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Индивидуальный экономический оптимизм/пессимизм в трансформирующемся обществе // Социологический журнал, 1998, N 1/2, сс. 39-54. 30. Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Iндивiдуальний оптимiзм /песимiзм в сучаснiй росiйскiй трансформацii // Социологiя: теорiя, методи, маркетинг. Киев, 1998 N 1/2. сс.164-175 (на украинском языке); 31. Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Межгенерационный сдвиг индивидуального экономического оптимизма/пессимизма в современной российской трансформации // Журнал социологии и социальной антропологии, СПб Ф ИС РАН и СПб ГУ, 1998, N 1/2, сс. 113-120. 32. Кесельман Л.Е. Социально - демографические факторы профессионально-производственной деятельности рабочих// "Рабочий класс СССР на рубеже 80-х годов"/ под ред. Л.А. Гордона и А.К.Назимовой. М.: ИМРД,1981. 33. Заславская Т.И. Доходы социальных групп и слоев: уровень и динамика//Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996, N2, С 7-13. Головаха Е.И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга на Украине. Киев: Институт социологии НАН Украины, 1997. 142с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||