 |
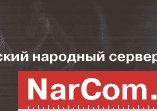 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В России отсутствует реалистическая, научно обоснованная уголовная политика в виде концепции, стратегии, программы. Имеющиеся “программные” документы, во-первых, таковыми не являются по существу, во-вторых, не подкреплены финансовыми, кадровыми, материально-техническими, идеологическими ресурсами, а потому бездействуют. Яков Гилинский Уголовная политика Российской Федерации:To be or not to be? С моей точки зрения, в России отсутствует реалистическая, научно обоснованная уголовная политика в виде концепции, стратегии, программы. Имеющиеся “программные” документы, во-первых, таковыми не являются по существу, во-вторых, не подкреплены финансовыми, кадровыми, материально-техническими, идеологическими ресурсами, а потому бездействуют. Если исходить не из провозглашаемых лозунгов, а из анализа реальной действительности, то прослеживается ряд тенденций, характеризующих то, что можно было бы назвать государственной “уголовной политикой”. Прежде всего, это сохранение традиционной для советского тоталитарного режима надежды на “силовые” методы, “усиление борьбы”, на репрессию. Об этом свидетельствуют и грозные заявления представителей “высших эшелонов власти” (от президентского “мочить в сортире” до предложения спикера Государственной Думы ввести каторжные работы, при которых осужденные – каторжане – “каждый день молили бы о смерти”), и правоприменительная практика, о чем речь пойдет ниже, и – законодательные новеллы. Может быть последнее – наиболее тревожный факт, ибо, во-первых, представляет мнение законодателей – “избранников народа”, а, во-вторых, обязательно к исполнению (другое дело, что в России законы обычно не исполняются…). Так, ныне действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1997 года (УК РФ) оказался самым жестоким – по предусмотренным санкциям – за всю историю страны с 1917 г., включая законы сталинского режима. При сохранении в перечне наказаний смертной казни (ст.59 УК), впервые вводится пожизненное лишение свободы (ст.57 УК), которое задумывалось и поддерживалось противниками смертной казни лишь в качестве ее альтернативы! Максимальный срок лишения свободы предусмотрен в 20 лет (в УК РСФСР 1926 г. – до 10 лет, в УК РСФСР 1960 г. – не свыше 15 лет), по совокупности преступлений – до 25 лет, а по совокупности приговоров – до 30 лет (ст.56 УК РФ)! Таких сроков лишения свободы не знало советское уголовное законодательство. Сталинский Закон 1932 г. и его же Указы 4 июня 1947 г. (увеличение возможного срока лишения свободы до 25 лет) носили одиозный, временный характер и были отменены после смерти тирана. Одновременно УК РФ отказался от института отсрочки исполнения приговора, что автоматически усилило репрессивность наказания, особенно в отношении несовершеннолетних, которым ранее такая отсрочка нередко предоставлялась судами (в 90-е гг. минувшего века - 17-19% от числа всех осужденных и 40-49% от числа осужденных несовершеннолетних). Продолжением репрессивной законодательной политики явился Закон “О наркотических средствах и психотропных веществах” (1997) – резкий шаг назад, сводящий на нет первые робкие успехи по обеспечению помощи наркоманам. Тотальный набор запрещенных наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров (необходимых продуктов для изготовления некоторых наркотических средств) и аналогов (ст.1, 2 Закона); запрет на использование наркотических средств и психотропных веществ частнопрактикующими врачами (ст.31); запрещение немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ (ст.40); резкое ограничение сведений, допустимых в антинаркотической пропаганде (ст.46); запрещение лечения больных наркоманией частнопрактикующими врачами, а также с использованием наркотических средств, в частности, метадоновой терапии, распространенной в большинстве стран (ст.55); применение медицинских мер принудительного характера (ст.54, п.3); фактическая ликвидация анонимного лечения (ст.56) – все это отбрасывает страну назад и приводит к полной беспомощности наркопотребителей перед наркобизнесом, криминализации негосударственной медицинской помощи, росту преступности наркопотребителей ради приобретения наркотиков и т.п. Создается впечатление, что закон был лоббирован отечественной и/или международной наркомафией. Я уже не говорю о постоянно витающих в Госдуме законопроектах о расширении применения смертной казни, о введении смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, о криминализации (установлении уголовной ответственности) за добровольный гомосексуализм взрослых партнеров, за занятие проституцией и т.п. При всей бредовости этих законопроектов, сам факт их рождения и лоббирования свидетельствует о направленности “дум” законодателей… Другой тенденцией, также продолжающей советскую традицию, служит “лакировка действительности”, массовое преступное сокрытие преступлений от регистрации. Причины – скрыть от населения истинные масштабы преступности, борьба за “честь мундира”, желание “выслужиться” (чем “меньше” преступлений, тем “лучше” работает полиция, милиция), а то и выполнение прямого приказа “сверху”. Так, очень высокая искусственная латентность (скрытые от регистрации преступления) была в СССР до 1983 г. В 1983 г. одним из поводов для снятия Н. Щелокова с поста министра внутренних дел послужили “вскрытые” Генеральной прокуратурой (как будто об этом раньше не было известно!) массовые случаи сокрытия преступлений от регистрации. Навели “порядок”, поснимали с постов ряд ответственных работников МВД, преступность в 1983 г. “выросла” в результате регистрации ранее сокрытых преступлений на 21,8% по сравнению с 1982 г. (это – огромный прирост преступности, до 1983 г. средние годовые колебания преступности были ± 5%). С начала 90-х гг. по 1994 г. искусственная латентность в России находилась на “приемлемом” уровне. Затем вновь начался ее рост. Об этом свидетельствуют несколько обстоятельств. Прежде всего, уровень раскрываемости преступлений. Средний для европейских стран уровень раскрываемости – 40% (во Франции в 1988 г. - 40,3%, в Великобритании в 2001 г. - 24,0%, в ФРГ в 2001 г. – 53,3%). Уровень раскрываемости в СССР свыше 90-95% (1980 г. – 95,4%, 1982 г. – 95,9%, 1984 г. – 90,2%) был заведомо нереален, “липовый”. Впервые правдоподобный показатель 46,9% достигнут в России в 1992 г., что свидетельствовало об относительно достоверной регистрации преступлений. “Рост” раскрываемости, начавшийся в 1993 г. (50,6%) и достигший 75,6% в 2000 г. мог быть результатом только массового сокрытия от регистрации “глухарей”, “неочевидных”, заведомо неперспективных для раскрытия преступлений. Летом 2001 г. это признал министр внутренних дел Б.Грызлов, заявив о необходимости изменить критерий оценки деятельности милиции (“раскрываемость”) и прекратить сокрытие преступлений от регистрации. Уровень раскрываемости начал снижаться (2001 г. – 69,7%, 2002 г. – 61%), но делать выводы о полноте регистраций преступлений пока преждевременно. Тем более что за предыдущие годы население приучили вообще не обращаться в милицию, оказавшись жертвами преступлений. Так, по данным наших виктимологических исследований (опрос населения с целью выявить количество жертв преступлений) в Санкт-Петербурге, в течение 1998-2001 гг. ежегодно от 69 до 74% потерпевших не обращались в милицию (в основном по мотивам: “милиция ничего не станет делать”, “милиция ничего не может сделать”, “не хотели связываться с милицией” и т.п., хотя были и “уважительные” причины – незначительный ущерб, “пожалели преступника”). Кроме того, как показывают результаты виктимологических опросов в Санкт-Петербурге, при “сокращении” статистических показателей преступности количество жертв преступлений в городе не сокращается, а возрастает (в 1991 г. – 12% опрошенных, в 1994 г. - 26%, в течение 1998-2001 гг. – около 27%). Третьей – тоже не новой, но принимающей апокалиптический характер тенденцией является тотальная коррумпированность “правоохранительных” органов (сейчас такое название трудно воспринимать всерьез, без кавычек; не случайно в печати промелькнуло предложение впредь именовать соответствующие силовые структуры “левоохранительными”) и уголовной юстиции. Справедливости ради заметим, что они продажны наряду с тотальной коррумпированностью всех ветвей, уровней, эшелонов власти. Вместе с тем, по результатам исследования коррупции фондом ИНДЕМ под руководством Г.Сатарова, “Крупнейшая коррупционная сеть сформировалась в системе силовых органов, включая ФСБ, МВД и Государственный таможенный комитет. Это, по-видимому, и наиболее развитая коррупционная сеть. В нее включены чиновники федерального и регионального уровней, работники таможен, складов, перевозчики, репортеры средств массовой информации и многие другие. На высшем уровне разрабатываются схемы проведения крупных операций, для чего проводятся совместные совещания, причем как полулегальные, так и нелегальные… Очень сильно коррумпированы суды, в которых можно за взятку получить любое желательное решение или не допустить нежелательного решения. В судах всех уровней, уголовных и общей юрисдикции, действуют стандартные и всем известные расценки на выполнение тех или иных действий”. Для незнающих расценки, они публикуются: к 2000 г. плата за невозбуждение уголовного дела составляла $1000 – 10000, за изменение меры пресечения с освобождением из-под стражи - $20000-25000, за смягчение наказания - $5000-15000, за игнорирование таможенных нарушений - $10000-20000 или 20-25% от таможенного сбора. В связи с инфляцией, эти цены несколько выросли… В последнее время власть декларирует приверженность либерально-демократическим ценностям. Но при этом продолжается ужесточение политического режима. Оно сопровождается отходом от либерализации экономических, социальных и особенно политических отношений (строительство “вертикали власти”, фактическое назначение выборных должностных лиц, политическое и экономическое давление на оппозиционные средства массовой информации, использование испытанных средств - войны, “угрозы Запада” и т.п. для формирования удобного властям общественного мнения, опора на “силовые структуры” и особенно органы ФСБ - МВД и т.д.). Очередным удобным поводом наращивания мощи силовых структур и ограничений СМИ явился международный терроризм. Его угроза реальна и страшна, но она часто используется в популистских целях. “Усиление борьбы” нередко объясняется ростом зарегистрированной преступности. Однако, в полном соответствии с положением России среди так называемых “развивающихся стран”, уровень преступности в ней существенно ниже, чем в “развитых странах”. Так, уровень преступности (на 100 тыс. жителей) в 2001 г. был: в Великобритании – 9814, в Германии - 7736, в России – 2039. Но в странах Запада (за исключением, пожалуй, США) вполне цивилизованно реагируют на преступность и другие девиации. В России же идет постоянное нагнетание паники, запугивание населения в целях обеспечить “глубокое удовлетворение” репрессивными намерениями дальнейшего “усиления борьбы”, а заодно и наращивания кадрового обеспечения “спецслужб”. Стоит ли напоминать, что в развитых странах, с уровнем преступности 7000-8000, количество полицейских на 100 тыс. населения составляет 200-400 человек, тогда как в России – 1224 (первое место в мире, на втором – Сингапур – 1074). А вот что касается судей, мы намного отстаем от цивилизованного мира (на 100 тыс. населения в Германии и Люксембурге - 27, в Австрии и Чехии - 20, в Финляндии - 18, в Бельгии - 12, в России только 9, правда, в США и Швеции – по 4). Репрессивность реальной отечественной уголовной “политики” проявляется также в действиях представителей силовых структур по отношению к задержанным, подозреваемым, обвиняемым, включая побои и пытки. Об этом много написано и показано, включая научную литературу, публицистику, прессу, радио, телевидение (вспомним хотя бы постоянную рубрику “Пытки как будни России” прекратившей свое существование “Общей газеты” Е.Яковлева). Об этом свидетельствуют многочисленные отечественные и зарубежные источники. Наконец, о “венце” нашей уголовной политики – пенитенциарной системе. Сразу же оговоримся: после ее передачи из МВД в Министерство юстиции, а также после вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ 2001 г.) забрезжил “луч света в темном царстве”. И все же… Со второй половины минувшего ХХ в большинстве цивилизованных стран осознается “кризис наказания”, кризис уголовной политики и уголовной юстиции, кризис полицейского контроля. Благодаря переведенным на русский язык книгам известного норвежского криминолога Н.Кристи “Пределы наказания” (М., 1985) и “Борьба с преступностью как индустрия: Вперед к ГУЛАГ’у западного образца” (М., 2001) мы можем подробнее ознакомиться с проблемой. “Кризис наказания” проявляется, во-первых, в том, что после Второй мировой войны во всем мире наблюдается рост преступности, несмотря на все усилия полиции и уголовной юстиции. Во-вторых, человечество перепробовало все возможные виды уголовной репрессии без видимых результатов (неэффективность общей превенции). В-третьих, как показал в 1974 г. Т. Матисен, уровень рецидива относительно стабилен для каждой конкретной страны и не снижается, что свидетельствует о неэффективности специальной превенции. В-четвертых, по мнению психологов, длительное (свыше 5-6 лет) нахождение в местах лишения свободы приводит к необратимым изменениям психики человека. Впрочем, о губительном (а отнюдь не “исправительном” и “перевоспитательном”) влиянии лишения свободы на психику и нравственность заключенных известно давно. Об этом подробно писал еще в 1930 г. профессор уголовного права М.Н.Гернет в книге “В тюрьме: Очерки тюремной психологии”. Тюрьма служит школой криминальной профессионализации, а не местом исправления. Осознание неэффективности традиционных средств контроля над преступностью, более того – негативных последствий такого распространенного вида наказания как лишение свободы, приводит к поискам альтернативных решений как стратегического, так и тактического характера. Во-первых, при полном отказе от смертной казни лишение свободы становится “высшей мерой наказания”, применять которую надлежит лишь в крайних случаях, в основном при совершении насильственных преступлений и только в отношении взрослых (совершеннолетних) преступников. Так, в 1984-1987 гг. в Англии и Уэльсе, а также в Швеции из общего числа осужденных к лишению свободы приговаривалось около 20% (правда в Англии и Уэльсе эта доля несколько увеличилась к 1996 г.), а к штрафу – почти половина осужденных. В Германии в середине 90-х гг. доля приговоренных к реальному (безусловному) лишению свободы составила лишь 11,5% от общего числа осужденных, тогда как штраф – 83,4%. В Японии в течение 1978-1982 гг. к лишению свободы приговаривались лишь 3,5% осужденных, к штрафу же – свыше 95%. Это вполне продуманная политика, ибо “в результате этого не происходит стигматизация лиц, совершивших преступные деяния, как преступников. Смягчаются сложности ресоциализации преступников после их чрезмерной изоляции от общества и таким образом вносится значительный вклад в предупреждение рецидива”. Расширяется применение иных – альтернативных лишению свободы – мер наказания (ограничение свободы, в том числе, с применением электронного слежения; общественные работы; “комбинированный приказ” в Англии и Уэльсе – сочетание общественных работ с пробацией). Во-вторых, в странах Западной Европы, Австралии, Канаде, Японии преобладает краткосрочное лишение свободы. Во всяком случае – до 2-3 лет, т.е. до наступления необратимых изменений психики. Так, в середине 90-х гг. в Германии осуждались на срок до 6 месяцев 21% всех осужденных к лишению свободы, на срок от 6 до 12 месяцев – еще 26% (т.е. всего на срок до 1 года – около половины всех приговоренных к тюремному заключению). На срок от 1 до 2 лет были приговорены 38,5% осужденных. Таким образом, в отношении 85,5% всех осужденных к лишению свободы срок наказания не превышал 2-х лет, на срок же свыше 5 лет были приговорены всего 1,2%. В Японии в 1994 г. из общего числа приговоренных к лишению свободы на срок до 1 года - 17,3%, до 3 лет – 68,8%, а свыше 5 лет – 1,3%. В России в 1986 г. из общего числа осужденных к лишению свободы на срок до 1 года было 14,1% , от 1 года до 2 лет – 21,2% (всего до 2-х лет – 35,3%), свыше 5 лет – 15,4%. В 1996 г. соответственно на срок до 1 года - 16,1%, от 1 года до 2 лет - 23,1% (всего до 2-х лет – 39,2%), свыше 5 лет – 13,7%. Интересно, что в 1926 г. из общего числа осужденных к лишению свободы были осуждены на срок до 6 месяцев – 70,5%, всего до 1 года – 84,2%, а на срок свыше 5 лет – 1,8%. Это свидетельствует о том, что в первое десятилетие советской власти она еще играла в либерализм и демократию. В-третьих, поскольку сохранность или же деградация личности существенно зависят от условий отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, постольку в современных цивилизованных государствах поддерживается по возможности достойный уровень существования заключенных (нормальные питание, санитарно-гигиенические и “жилищные” условия, медицинское обслуживание, возможность работать, заниматься спортом, встречаться с родственниками), устанавливается режим, не унижающий их человеческое достоинство, а также существует система пробаций (испытаний), позволяющая строго дифференцировать условия отбывания наказания в зависимости от его срока, поведения заключенного и т.п. Автору этих строк довелось посещать тюрьмы и другие пенитенциарные учреждения многих зарубежных стран и, конечно же, быв. СССР и России. В тюрьмах Западной Европы убеждаешься, что можно вполне сочетать надежность охраны (в основном с помощью электронной техники, без автоматчиков и собак) и режимные требования с соблюдением прав человека, уважением его личности. В одной из посещенных мною тюрем Финляндии заключенным… выдаются ключи от камеры, чтобы человек, уходя из нее, мог закрыть дверь в “свою комнату” и открыть, возвращаясь. По мнению начальника тюрьмы, это позволяет заключенным сохранять чувство собственного достоинства. От полдника в ирландской тюрьме (недалеко от Дублина) – два яйца, йогурт, каша, апельсин – не отказался бы и я. Об ужасных условиях содержания подследственных в российских следственных изоляторах (СИЗО – в которых обвиняемые нередко проводят больший “срок”, чем могли бы получить по приговору суда) и заключенных в колониях и тюрьмах написано столько, что было бы неприлично повторять всем известное. От себя хотел бы только напомнить сторонникам “жестких мер”, что чем больше людей мы “сажаем”, чем бесчеловечнее условия отбывания наказания, тем больше озлобленных, с нарушенной психикой, приобретших или повысивших свой криминальный профессионализм людей получаем “на выходе”. В мире поняли, что именно общество прежде всего – даже больше, чем сами осужденные, - заинтересовано в гуманной юстиции и пенитенциарной системе. Направляя в тюрьмы все больше и больше людей, мы ведь рано или поздно получаем их “назад” - с “их” нравами, языком, образом жизни. Но тогда и с обществом, со всеми нами происходит то, что зарубежная криминология давно окрестила “призонизацией”, (“отюрьмовлением” - от англ. Prison – тюрьма) повседневного быта, культуры, языка. В результате “заразное дыхание зоны отравило всю Россию” (Л. Романков). Мы это ежедневно наблюдаем в транспорте, на улицах, слышим с экранов телевизоров… Добавим к этому, что пенитенциарные учреждения наряду с безработицей, бездомностью, незанятостью подростков и молодежи множат ряды “исключенных” (exclusive) – основной социальный резерв преступности, пьянства, наркотизма, проституции, самоубийств. В-четвертых, все решительнее звучат предложения по формированию и развитию альтернативной, не уголовной юстиции для урегулирования отношений “преступник – жертва”, по переходу от “возмездной юстиции” (retributive justice) к юстиции возмещающей, восстанавливающей (restorative justice). Суть этой стратегии состоит в том, чтобы с помощью доброжелательного и незаинтересованного посредника (нечто в роде “третейского судьи”) урегулировать отношения между жертвой и преступником. Во многих случаях корыстных преступлений потерпевший больше заинтересован в реальном возмещении причиненного ему ущерба, нежели в том, чтобы “посадить” виновного (и, как правило, в течение многих лет дожидаться результатов исполнения обязательств по удовлетворенному в уголовном процессе гражданскому иску). А лицо, совершившее это преступление, скорее будет готово возместить ущерб, чем “идти в тюрьму”. Опыт такого решения конфликта “преступник – жертва” фактически существует в тех странах, где еще сильны общинные связи и авторитет старейшин, и постепенно внедряется в других государствах. Незначительный пока отечественный опыт представлен в “Вестниках восстановительной юстиции”, выпускаемых с 2000 г. Общественным центром “Судебно-правовая реформа”. В целом речь идет о переходе от стратегии “войны с преступностью” (war on crime) к стратегии “сокращения вреда” (harm reduction). Об этом прямо говорится в 11-й Рекомендации доклада Национальной Комиссии США по уголовной юстиции: “изменить повестку дня уголовной политики от "войны" к "миру"”. А российский политик и профессор-криминолог С. Босхолов пишет: “Призывы к войне с преступностью, усилению борьбы с ней… ставят перед органами уголовной юстиции, государством и обществом несодержательную цель. Они не только дезориентируют, но и дезорганизуют их деятельность по обеспечению безопасности и правопорядка, влекут, как правило, массовые нарушения законности, прав и свободы граждан”. Действительно, устраивать “шоу-маски”, облавы на “лиц кавказской национальности” и т.п. “мероприятия” гораздо проще и нагляднее, чем повседневно защищать каждого гражданина, каждого налогоплательщика от возможных преступных посягательств. Важнейшими направлениями современной российской уголовной политики нам представляются:
Без осуществления этих и некоторых других мер совершенствования уголовной политики в современной России трудно говорить о реализации идей демократического и правового государства. Однако предпосылок для реализации этих и других возможных предложений в современной действительности автор не видит. Тем более, что в условиях тотальной коррумпированности всех властных структур на всех уровнях ни одна социальная, экономическая, политическая проблема не может быть решена, ибо все сводится к одному – кому и сколько надо заплатить… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||