 |
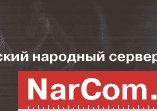 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Из всех видов деятельности, при помощи которых люди пытаются на время уйти от тягот повседневной жизни, спортивные игры представляют собой одно из наиболее чистых проявлений ухода. Как и секс, наркотики и выпивка, они препятствуют осознанию повседневной реальности, не притупляя при этом самого сознания, а выводя его на новый уровень концентрации. К тому же, игры не имеют побочных эффектов и не вызывают похмелья или эмоциональных осложнений К. Лэш Дух игры и стремление к национальному подъему Из всех видов деятельности, при помощи которых люди пытаются на время уйти от тягот повседневной жизни, спортивные игры представляют собой одно из наиболее чистых проявлений ухода. Как и наркотики и выпивка, они препятствуют осознанию повседневной реальности, не притупляя при этом самого сознания, а выводя его на новый уровень концентрации. К тому же, игры не имеют побочных эффектов и не вызывают похмелья или эмоциональных осложнений. Игры удовлетворяют одновременно потребность в свободной фантазии и поиске неоправданных трудностей; они соединяют ребяческий избыток сил с сознательно созданными препятствиями. Устанавливая равные условия для всех игроков, говорит Роджер Кайллойс, игры пытаются заменить “нормальную неразбериху повседневной жизни”[2] идеальными условиями. Они воссоздают свободу, заставляют вспомнить о беззаботном детстве и огораживают повседневную жизнь искусственными границами; единственными ограничениями в играх служат правила, которым игроки добровольно подчиняются. Игры требуют ловкости и проницательности, предельной сосредоточенности на цели в совершенно бесполезной деятельности, которая никак не способствует борьбе человека с природой, благополучию или комфорту сообщества или его физическому выживанию. Бесполезность спортивных игр делает их уязвимыми для социальных реформаторов, разного рода моралистов или функционалистских критиков общества, наподобие Веблена, которые считают бессмысленные спортивные состязания среди высших слоев общества пережитками милитаризма. И все же именно “бессмысленностью” — искусственностью, произвольными препятствиями, не имеющими никакой иной цели, кроме как помешать игрокам их преодолеть, отсутствием каких-либо утилитарных целей и ничем другим — объясняется привлекательность игр. Игры быстро утрачивают свое очарование, когда они ставятся на службу образованию, воспитанию характера или развитию общества. Сегодня широкое распространение получило представление о полезном и здоровом влиянии спорта, пришедшее на смену различным утилитарным идеологиям прошлого; согласно этому представлению, спорт играет важную роль в обеспечении здоровья, физической подготовленности и, как следствие, национального благополучия, которое понимается в качестве суммы “человеческих ресурсов” нации. “Социалистическая” разновидность этой идеологии почти не отличается от капиталистической, которая предлагалась, например, Джоном Кеннеди (вспомним его занудные рассуждения о необходимости физической подготовки). Обосновывая создание своего Президентского совета по физической подготовке молодежи, возглавлявшегося футбольным тренером Бадом Уилкинсоном, Кеннеди говорил о непрекращающемся ухудшении здоровья молодежи. “Наша изнеженность, наша недостаточная физическая подготовленность представляют угрозу нашей безопасности”. Эти нападки на “изнеженность” идут рука об руку с осуждением зрителей. Социалистическая риторика производит не менее гнетущее впечатление. Кубинское правительство объявило в 1967 году, что спорт должен считаться “неотъемлемой частью образования, культуры, здравоохранения, обороны, счастья и развития народа и нового общества”. В 1925 году ЦК ВКП (б) заявил, что спорт должен сознательно использоваться “как средство объединения широких масс рабочих и крестьян вокруг различных партийных советских и профсоюзных организаций, посредством которых массы рабочих и крестьян вовлекаются в социальную и политическую деятельность”. К счастью, во всех странах люди интуитивно склонны сопротивляться таким призывам. Они знают, что игры остаются бесцельными и что просмотр волнующего спортивного состязания может быть почти таким же изнурительным в эмоциональном отношении, как и само участие — вряд ли поборники общественного здоровья и добродетели способны понять этот “пассивный” опыт. Хейзинга о homo ludens При современной промышленности, сводящей большую часть работы к рутине, игры приобретают в нашем обществе дополнительное значение. Люди стремятся найти в игре трудности и вызовы — интеллектуальные и физические, — которых они больше не находят в работе. Возможно, наслаждению трудом мешают не монотонность и рутина, ибо всякая стоящая работа сопряжена с определенной нудностью, а особые условия, которые преобладают в крупных бюрократических организациях и во все большей степени на современных предприятиях. Когда работа утрачивает свое осязаемое и зримое качество, утрачивает свой характер преобразования материи посредством человеческой изобретательности, она становится полностью абстрактной и безличной. Глубокая субъективность современного труда, еще более очевидная в офисе, чем на заводе, побуждает людей сомневаться в реальности внешнего мира и загонять себя в панцирь защитной иронии. Труд теперь сохраняет так мало следов игры, а повседневная рутина дает так мало возможностей для того, чтобы избежать иронического самосознания, которое само по себе приобретает качество рутины, что люди стремятся найти в игре нечто больше, чем просто острые ощущения. “Во времена, когда образ является одним из наиболее часто используемых слов в американской речи и письме, — отмечает Джозеф Эпштейн в своем недавнем очерке о спорте, — человек не слишком часто сталкивается с реальностью”. История культуры, как показал Хейзинга в своей классической работе об игре Homo Ludens, по-видимому, заключается в постепенном устранении элементов игры из всех культурных форм — из религии, из права, из войны и, прежде всего, из производительного труда. Рационализация этих видов деятельности не оставляет пространства для неясности и произвольности. Риск, смелость и неопределенность — важные составляющие игры — отсутствуют в промышленности или в видах деятельности, ориентирующихся на индустриальные стандарты, задача которых состоит в том, чтобы предсказывать и контролировать будущее и исключать риски. Поэтому игры приобрели значение, которого они не имели даже в Древней Греции, где значительная часть социальной жизни вращалась вокруг состязаний. Спорт, удовлетворяющий острую потребность в физическом напряжении для возрождения ощущения физической основы жизни, вызывает воодушевление не только у масс, но и тех, кто называет себя культурной элитой. Зрелищные виды спорта приобрели свое нынешнее значение одновременно с возникновением массового производства, которое обостряет удовлетворяемые спортом потребности, создавая при этом технические возможности для продажи спортивных соревнований более широкой аудитории. Но, согласно распространенной критике современного спорта, с этим также связано снижение значимости спорта как такового. Коммерциализация превратила игру в работу, подчинила удовольствие атлета удовольствию зрителя и свела самого зрителя к состоянию пассивного овоща — полная противоположность олицетворяемого спортом здоровья и силы. Мания победы способствовала приданию слишком большого значения состязательной составляющей спорта и забвению более скромного, но и приносящего большее удовлетворение опыта сотрудничества. Культ победы, провозглашенный такими футбольными тренерами, как Винс Ломбарди и Джордж Аллен, делал из игроков дикарей, а из болельщиков — фанатичных шовинистов. Насилие и горячая поддержка современного спорта убедили некоторых критиков в том, что спорт навязывает молодежи милитаристские ценности, иррационально внушает зрителям локальную и национальную гордость и служит одним из главных оплотов мужского шовинизма. Хейзинга, предвосхитивший некоторые из этих идей и высказавший их куда более убедительно, утверждал, что современные игры и спортивные состязания были погублены “фатальным переходом к сверхсерьезности”. В то же самое время, он отмечал, что игра утратила свою составляющую ритуала, стала “профанной” и, следовательно, лишилась “всякой органической связи со структурой общества”. Массы теперь жаждут “банальных развлечений и грубых чувств” и для удовлетворения своих влечений бросаются во все тяжкие. Вместо того чтобы играть с ребяческой свободой и силой, они играют со “смесью юности и варварства”, которую Хейзинга называет пуерилизмом, наделяя игры патриотическим и военным пылом и относясь к серьезным вещам так, словно это игра. Как отмечает Хейзинга: «В спорте следовало бы говорить о деятельности, осознаваемой и признанной в качестве игры, но при этом доведенной до такой степени технической организованности, материальной оснащенности и научного осмысления, что в коллективном и публичном занятии ею возникает угроза потери самого духа игры». Критика спорта Анализ критики современного спорта в ее вульгарной форме и даже в ее более утонченной версии у Хейзинги позволяет пролить свет на множество распространенных заблуждений по поводу современного общества. За последние годы появилось множество работ, посвященных спорту, а социология спорта превратилась в отрасль социальной науки. И хотя большинство авторов не преследует никаких иных целей, кроме пропаганды спорта или эксплуатации созданного ими журналистского рынка, некоторые все же стремятся к социальной критике. К тем, кто впервые озвучил широко известные ныне обвинения организованному спорту, относятся социолог Гарри Эдвардс, психолог и бывшая теннисистка Доркас Сьюзен Батт, считающая, что спорт должен способствовать развитию “умений”, а не соперничества, разочарованные профессиональные спортсмены, наподобие Дейва Мэггиси и Чипа Оливера, и радикальные критики культуры и общества, в частности, Пол Хоч и Джек Скотт. [3] Рассмотрение их работ позволяет установить историческое своеобразие нынешней культурной болезни. Критики спорта в своем стремлении показать признаки разложения и упадка нападают на важнейшие составляющие спорта, которые привлекали в нем всегда и везде, ошибочно считая, что присутствие зрителей, насилие и соперничество свойственны только современной эпохе. С другой стороны, они не замечают значительного вклада современного общества в вырождение спорта и, следовательно, неверно истолковывают характер этого вырождения. Они обращают внимание на проблемы, наподобие “сверхсерьезности”, которые крайне важны для понимания спорта и самого определения игры, но которые имеют второстепенное отношение к его историческому развитию и современному преобразованию. Возьмем распространенное сетование, что современные спортивные состязания “больше ориентированы на зрителя, чем на участника”. Зрители, с этой точки зрения, никак не влияют на успех игры. На какой же наивной теории человеческой мотивации основывается такое представление! Приобретение определенных навыков неизбежно вызывает желание похвастаться ими. На более высоком уровне мастерства исполнитель желает не просто показать свою виртуозность — ведь подлинный знаток легко может провести различие между исполнителем, который играет перед толпой, и настоящим мастером своего дела, — а сыграть очень трудное произведение, доставить удовольствие, создать связь между собой и своей аудиторией, которая заключается в общей оценке безукоризненно исполненного ритуала с глубоким ощущением и сознанием стиля и меры. [4] Во всех играх, особенно в спортивных состязаниях, важность показной составляющей и представления служит напоминанием о древней связи между игрой, ритуалом и драмой. Игроки не только соперничают, они выполняют знакомую церемонию, которая подтверждает общие ценности. Церемония требует наблюдателей: восторженных зрителей, знакомых с правилами исполнения и ее основным значением. Присутствие зрителей вовсе не обесценивает спортивные состязания: оно необходимо для них. Одна из заслуг современного спорта состоит в его сопротивлении эрозии стандартов и его способности обращаться к осведомленной аудитории. С точки зрения Нормана Подхореца, спортивная публика остается более разборчивой, чем публика, интересующаяся искусством, и в спорте “качество труднее оспорить”. И что еще более важно: существует согласие относительно критериев, по которым должно оцениваться качество. Публика, интересующаяся спортом, во многом состоит из людей, занимавшихся спортом в детстве, понимающих игру и способных выносить разборчивые суждения. Это вряд ли можно сказать об аудитории, интересующейся творчеством, даже если музыканты, балерины, актеры и художники из числа любителей могут составлять незначительную часть аудитории. Во всяком случае, постоянные эксперименты в искусстве создали такую неразбериху в стандартах, что единственным критерием качества для многих стала новизна и способность шокировать, которая во времена пресыщенности часто выражается в явном уродстве или банальности произведений. С другой стороны, новизна и веяния моды в спорте слабо влияют на его привлекательность для разборчивой аудитории. И, тем не менее, разложение стандартов уже началось. Сталкиваясь с растущими издержками, собственники стремятся повысить популярность спортивных мероприятий, устанавливая яркие табло, продавая права на вещание в прямом эфире, отказываясь от защитной экипировки и окружая зрителей группами поддержки, капельдинершами и девочками, подбирающими мячи. Телевидение увеличило аудиторию спортивных состязаний, понизив планку понимания; по крайней мере, так считают спортивные комментаторы, которые направляют на зрителей бесконечный поток разъяснений основ игры, и организаторы спортивных мероприятий, меняющие одну игру на другую, потакая вкусам зрителей, которые не способны разобраться во всех тонкостях. Когда телевизионные сети узнали о серфинге, они настояли на проведении соревнований по заранее утвержденной программе, независимо от погодных условий. Серферы жаловались: “Телевидение разрушает наш спорт. Телевизионщики превращают спорт и искусство в цирк”. Тот же подход оказывает схожее влияние и на другие спортивные состязания, вынуждая, например, бейсболистов проводить игры чемпионата морозными октябрьскими вечерами. В теннисе замена искусственными покрытиями травы, замедлявшей темп игры, требовавшей придания особого значения надежности и терпению и снижавшей составляющую тактического блеска и невероятной скорости, произошла при поддержке телевизионщиков, так как это сделало теннис всепогодной игрой и даже позволило проводить матчи на крытых кортах, например, в святая святых спорта —“Сизарс пэлас” в Лас-Вегасе. Поскольку зрители все меньше разбираются в играх, которые они смотрят, они становятся все более кровожадными и падкими на сенсации. Рост насилия в хоккее, лишенный всякого функционального смысла, совпал по времени с распространением профессионального хоккея в городах, не имевших традиционного пристрастия к этому виду спорта, — городах, в которых развитие традиций этой игры было невозможным из-за погодных условий. Но значение этих перемен состоит не в том, что спорт должен, как полагают некоторые критики, служить исключительно воспитанию игроков и что разложение начинается, когда состязания начинают проводиться перед зрителями за деньги. Никто не отрицает желательность занятий спортом — не потому, что они делают тело сильным, а потому, что они приносят радость и наслаждение. Но, глядя на тех, кто достиг вершин в спорте, мы получаем критерии для оценки самих себя. Глядя на них, мы в превращенном виде переживаем боль поражения и радость победы. Спорт требует богатых ассоциаций и фантазий, формирующих неосознанное восприятие жизни. Наблюдение за игрой не более “пассивно”, чем мечтание, если, конечно, игра ведется на таком уровне, который способен вызвать эмоциональный отклик. Ошибочно считать, что занятия спортом служат интересам игроков или что “профессионализация” неизбежно развращает всех участников. Прославляя любительство, приравнивая наблюдение за спортивными состязаниями к пассивности и сетуя на конкуренцию, современная критика спорта идет по пути фальшивого радикализма контркультуры. Она выказывает презрение к мастерству, предлагая разрушить “элитарное” различие между игроками и зрителями. Она предлагает заменить состязательный профессиональный спорт, при всех своих недостатках все же сохраняющий стандарты компетентности и отваги, от которых в противном случае не осталось бы и следа, мягким режимом совместных развлечений, открытым для всех, независимо от возраста или способностей, — “новым несостязательным спортом”, не имеющим никакой иной цели, кроме предоставления людям “возможности получать удовольствие друг с другом”. [5] Стремясь лишить спорт элементов, которыми всегда объяснялась его необычайная привлекательность, этот “радикализм” предлагает просто довести до конца вырождение, начатое тем самым обществом, критикой и ниспровержением которого, как заявляют культурные радикалы, они занимаются. Обеспокоенные эмоциональным откликом, который вызывают состязательные виды спорта, критики “пассивности” зрителей хотят поставить спорт на службу здоровому образу жизни, подчинив или устранив элемент фантазии, притворства и театральности, который всегда ассоциировался с играми. Требование более широкого участия, как и недоверие к соперничеству, по-видимому, вызвано страхом того, что бессознательные импульсы и фантазии полностью овладеют нами, если мы позволим им выразиться.[6] Тривиализация спорта К разложению спорта, как и других занятий, ведет не профессионализация или соперничество, а ломка окружающих игру традиций. Именно в этот момент ритуал, драма и спорт вырождаются в зрелище. Предложенный Хейзингой анализ секуляризации спорта облегчает понимание проблемы. В той степени, в какой спортивные состязания утрачивают составляющую ритуала или общественного праздника, они вырождаются в “банальные развлечения и грубые чувства”. Но даже Хейзинга ошибочно истолковывает причину такого развития событий. Вряд ли она состоит в “фатальном переходе к сверхсерьезности”. Хейзинга и сам, когда он пишет о теории игры, а не о крахе “подлинной игры” в наше время, прекрасно сознает, что игра в своих наивысших проявлениях всегда серьезна; и суть игры состоит в принятии всерьез действий, которые не имеют никаких целей, не служат никаким утилитарным задачам. Он напоминает нам, что “большинство греческих состязаний проводилось с убийственной серьезностью”, и относит к играм поединки, участники которых бьются до смерти, состязания на воде, цель которых состоит в том, чтобы утопить соперника, и турниры, подготовка к которым полностью поглощает атлетов. Поэтому вырождение спорта заключается не в слишком серьезном отношении к нему, а в его тривиализации. Игры черпают свою силу из нагрузки внешне тривиальной деятельности серьезным содержанием. Безоговорочно подчиняясь правилам игры, игроки (и зрители) совместно создают иллюзию реальности. Таким образом, игра становится отражением жизни, принимая одновременно театральный характер. В наше время игры, в том числе и спортивные, стремительно утрачивают свое иллюзорное качество. Обеспокоенная присутствием фантазии и иллюзии, наша эпоха, по-видимому, идет на уничтожение безвредных замещающих удовольствий, прежде обладавших очарованием и приносивших утешение. В случае спорта, в наступлении на иллюзию участвуют игроки, организаторы спортивных мероприятий и сами зрители. Игроки, стремящиеся представить себя в качестве работников индустрии развлечений (отчасти для того, чтобы оправдать свои огромные заработки), отрицают серьезность спорта. Телевидение создает в домах новую аудиторию, а зрителей, сидящих на трибунах, побуждает гримасничать перед камерой и пытаться привлечь внимание оператора дурацкими выходками, не имеющими никакого отношения к тому, что происходит на поле. Иногда болельщики ведут себя более агрессивно, бросаясь на поле или ставя стадион “на уши” после важной победы. Растущее насилие толпы, вина за которое обычно возлагается на современный спорт и привычку относиться к нему слишком серьезно, напротив, вызвано неспособностью отнестись к нему с достаточной серьезностью — принять правила, которые одинаково сдерживают зрителей и игроков. После захватывающего матча между Виласом и Коннорсом в финале открытого чемпионата США по теннису 1977 года в Форест Хиллс неуправляемая толпа вырвалась на корт и помешала традиционному рукопожатию игроков, что позволило Коннорсу покинуть стадион, не признав победы своего соперника и не приняв участия в заключительных церемониях. Подобного рода выходки разрушают иллюзию, создаваемую игрой. Игра без правил утрачивает всякий смысл. Империализм и культ деятельной жизни Недавняя история спорта — это история его постепенного подчинения требованиям повседневной жизни. В XIX веке буржуазия выступала против народных спортивных развлечений и праздников во время своей кампании за трезвость. Ярмарки и футбол, травля быков, петушиные бои и бокс возмущали буржуазных реформаторов своей жестокостью и тем, что мешали движению по оживленным улицам и площадям, нарушали повседневное течение дел, отвлекали людей от работы, поощряли безделье, расточительность и непокорность и вызывали разврат и распутство. Эти реформаторы призывали рабочий люд отказаться от своих разгульных спортивных состязаний и оставаться среди своих домашних ради “рационального удовольствия” и духа “совершенствования”. Когда увещевания потерпели провал, они обратились к политическому действию. В начале XIX века в Англии они столкнулись с очень пестрой по своему составу консервативной коалицией: для защиты своих “давних” развлечений простолюдины объединялись с традиционалистами из числа мелкопоместного дворянства, которые не были еще заражены евангелистским благочестием, сентиментальным гуманизмом и догмой предприимчивости. “Что произойдет, если полностью запретить такие развлечения?” — спрашивали они. — “Простолюдины, лишившись всякой надежды на получение удовольствия, станут вялыми и унылыми... Более того, поскольку потребность в развлечениях никуда не исчезнет, они станут предаваться менее законным удовольствиям”.[7] В Соединенных Штатах кампании против народных развлечений, тесно связанные с борьбой за трезвость и за более строгое проведение выходных дней, принимали характер этнических и классовых конфликтов. Рабочий класс, состоявший преимущественно из иммигрантов-католиков, защищал, часто в необычном союзе со “спортивными элементами” и “светским обществом”, свою любовь к выпивке и азартным играм от нападок благопристойности средних слоев. Например, в середине XIX века в Нью-Йорке партия вигов отождествляла себя с предприимчивостью, совершенствованием, трезвостью, благочестием, бережливостью, постоянством, книжностью и строгим соблюдением всех обрядов, связанных с днем отдохновения, а демократы, партия сельской реакции и иммигранских масс, обращалась к любителям спорта или, по определению Ли Бенсона, любителям “забористой выпивки, быстрых женщин и лошадей и крепких словечек”. Принятие пуританских законов, которые делали многие народные увеселения незаконными и загоняли их в подполье, свидетельствует о политическом провале этого союза между спортом и модой. Реформаторы из среднего класса, первоначально связанные с партией вигов, а затем с республиканцами, обладали не только преимуществом доступа к политической власти, но и пылкой моральной целеустремленностью. Дух раннебуржуазного общества глубоко противоречил игре. Игры не только не способствовали накоплению капитала, не только побуждали делать ставки и опрометчиво тратить с трудом заработанные деньги, но и содержали в себе важный элемент притворства, иллюзии, мимикрии и фантазии. Буржуазное недоверие к играм отражало более глубокое недоверие к воображению, театральности, сложному платью и костюму. Веблен, чья сатира на буржуазное общество затрагивала многие ценности, разделявшиеся им самим, в том числе неприязнь к бесполезной и непродуктивной игре, осуждал спортивные развлечения высших слоев за их “пустоту”; при этом он не упускал связь между спортивной и театральной зрелищностью: “Примечательно, что даже очень тихие и практичные люди, которые ходили на охоту, могли брать с собой кучу оружия и снаряжения, чтобы создать ощущение всей серьезности своего предприятия. Эти охотники также были склонны к театральности, важничанью и напыщенности”. Вебленовская сатира на “праздный класс” потерпела провал; в Америке, где единственным оправданием праздности служило восстановление тела и разума к работе, высший класс по большей части вообще отказался становиться праздным. Опасаясь того, что его могут оттеснить дельцы, пренебрегающие всеми условностями, он овладел искусством массовой политики, установил свой контроль над складывавшимися промышленными корпорациями и сделал своим идеалом “деятельную жизнь”. И спорт играл в этой моральной реабилитации правящего класса немаловажную роль. Подавив или вытеснив на периферию общества большинство развлечений простолюдинов, haute bourgeoisie начала приспосабливать игры своих классовых врагов для своих собственных целей. В частных школах, которые готовили сыновей буржуазии к принятию ответственности за бизнес и империю, спортивные состязания были поставлены на службу воспитания “характера”. Новая идеология империализма в Англии и Соединенных Штатах прославляла игровое поле как источник качеств, необходимых для национального величия и военных успехов. Не считавшая спорт разновидностью показного поведения и проявлением очевидной бесполезности, новая национальная буржуазия, которая в конце XIX века пришла на смену местным элитам, открыто говорила о необходимости прививания “воли к победе”.[8] И когда популярные проповедники успеха переопределили трудовую этику, подчеркнув в ней элемент конкуренции, спортивное соперничество приобрело новое значение, став подготовкой к борьбе за жизнь. В бесконечном потоке книг, направленном на удовлетворение растущего спроса на спортивную беллетристику, популярные авторы объявляли Фрэнка Мэрривела и других спортсменов образцами для подражания американской молодежи. Целеустремленные молодые люди, которым раньше советовали с молодых ногтей идти в бизнес и взбираться на вершину с самого низа, теперь узнали секрет успеха на спортивном поле в жестком, но дружеском соперничестве с равными. Сторонники новой деятельной жизни утверждали, что спорт развивал смелость и мужество, которые способствовали не только индивидуальным успехам, но и господству высшего класса. Согласно Теодору Рузвельту, “в большинстве стран на "буржуазию" —добродетельный, респектабельный, коммерческий, средний класс — смотрят с определенным презрением, которое объясняется ее робостью и невоинственностью. Но когда из среднего класса выходят люди, вроде Гаукинса и Фробишера в мореходстве или рядовых солдат Федерации во времена Гражданской войны, он приобретает искреннее уважение других, признающих его заслуги”. Рузвельт полагал, что спортивные состязания помогут создавать таких лидеров, но в то же самое время предостерегал своих сыновей, чтобы они не считали футбол, бокс, верховую езду, стрельбу, походы и греблю “целью, которой должны быть посвящены все силы или даже значительная часть этих сил”. Согласно идеологам нового империализма, спортивные состязания также закладывали основу национального величия. Уолтер Кэмп, чьи тактические новшества в Йеле привели к появлению современного американского футбола, утверждал во времена Первой мировой войны, что “именно воля к победе, несмотря ни на что, позволила выстоять при Шато-Тьери”. То же говорил и генерал Дуглас Макартур во время Второй мировой войны: “На полях дружеских сражений засевались семена, которые в другое время и на других полях приносили плоды победы”. Но к этому времени культ деятельной жизни так же устарел, как и открытый расизм, который некогда вдохновлял идеологию империализма. И сам Макартур со своей горячей верой в непорочную жизнь и высокие помыслы стал анахронизмом. В результате соединения американского империализма с более либеральными ценностями культ “мужественности” в неизменном виде сохранился только в идеологии крайне правых. В 1960-х годах реакционные идеологи прославляли спорт как “крепость, позволяющую отгородиться от радикальных элементов”, по словам главного футбольного тренера из Университета штата Вашингтон; Спиро Агню утверждал, что спорт был “одной из немногих скреп общества”. Макс Раферти, школьный инспектор в Калифорнии, отстаивал представление о том, что “тренер должен делать из молокососов мужчин”, и пытался утешить себя тем, что “любовь к чистому, соревновательному спорту у американцев в крови и что вопли и крики наших "свободолюбцев" вызваны ненавистью и завистью к атлетам, потому что сами они никогда не смогут стать настоящими мужчинами”. Корпоративная лояльность и соперничество Именно такие заявления и стали основной мишенью левых критиков спорта — еще один пример того, как культурный радикализм, преподнося себя в качестве революционной угрозы status quo, на деле ограничивает свою критику отмирающими ценностями американского капитализма, которые давно уже не играют никакой роли. Левая критика спорта служит одним из наиболее ярких примеров конформистского характера “культурной революции”, с которой она себя идентифицирует. Как утверждали Пол Хоч, Джек Скотт, Дейв Мэггиси и другие культурные радикалы, спорт служит “зеркальным отражением” общества и прививает молодежи господствующие ценности. В Америке организованные занятия спортом призваны обучать милитаризму, авторитаризму, расизму и сексизму, способствуя сохранению у масс “ложного сознания”. Спорт служит “опиумом” для народа, уводящим массы от реальных проблем в “мир грез”. Он вызывает сексуальное соперничество между мужчинами перед “весталками”, радостно кричащими по краям поля, и, следовательно, мешает пролетариату достичь революционной сплоченности в борьбе со своими угнетателями. Соревновательные виды спорта, гласит обвинение, заставляют “ориентированное на удовольствие Оно” подчиняться “гегемонии угнетенного Я” для поддержания нуклеарной семьи — основной формы авторитаризма — и направлять сексуальную энергию на службу трудовой этике. Поэтому организованные соревнования должны уступить место “спорту, направленному на то, чтобы сделать игроком каждого”. Кроме того, если каждый будет иметь “по-настоящему творческую работу”, “не нужно будет искать псевдоудовлетворения в том, чтобы быть болельщиком”. В основе этих нападок лежит предположение о том, что культурные радикалы понимают потребности и интересы масс лучше, чем сами массы, что само по себе противоречит всем принципам социального анализа. Усвоение образцов поведения в обществе (“социализация”) смешивается здесь с идеологической обработкой, а самые реакционные высказывания принимаются за чистую монету, словно спортсмены безоговорочно принимают правые взгляды некоторых своих наставников и представителей. Спорт играет важную роль в социализации, но уроки, которые преподает он, не обязательно соответствуют тем, что стремятся преподать тренеры и учителя физкультуры. “Зеркальная” теория спорта, как и все редукционистские интерпретации культуры, не признает никакой самостоятельности за культурными традициями. В спорте традиции передаются от одного поколения игроков к другому, и хотя спорт отражает социальные ценности, он никогда не может быть полностью подчинен этим ценностям. И спорт сопротивляется такому подчинению сильнее многих других видов деятельности, поскольку игры, которыми увлекаются в молодости, предъявляют свои собственные требования и пробуждают лояльность к самой игре, а не к программам, которые стремятся навязать идеологи. Во всяком случае “реакционные ценности”, якобы увековечиваемые спортом, давно перестали отражать преобладающие потребности американского капитализма. Расизм некогда служил идеологической подпоркой колониализма и отсталой системы труда, основанной на рабстве или батрачестве. Эти формы эксплуатации покоились на прямом, неприкрытом присвоении прибавочной стоимости господствующим классом, который оправдывал свое господство на том основании, что низшие слои, неспособные к самоуправлению вследствие своей расовой неполноценности или происхождения, нуждались в покровительстве со стороны господ. Расизм и патернализм были двумя сторонами одной монеты, “бременем белого человека”. Капитализм постепенно заменил прямые формы господства свободным рынком. В развитых странах он превратил крепостных или рабов в свободных рабочих. Он также революционизировал колониальные отношения. Вместо навязывания военного правления своим колониям индустриальные страны теперь правили при помощи внешне суверенных государств-клиентов, которые, со своей стороны, были весьма покладистыми. Такие перемены делали расизм и идеологию военного завоевания, отвечавшую более ранней эпохе имперского строительства, все более анахроничной. В Соединенных Штатах переход от джингоизма Теодора Рузвельта к либеральному неоколониализму Вудро Вильсона свидетельствовал об отмирании старой идеологии англо-саксонского превосходства. Крах “научного” расизма в 1920-1930-х годах, интеграция вооруженных сил во время Корейской войны и борьба против расовой сегрегации в 1950-1960-х годах обозначили глубокий идеологический сдвиг, связанный с изменением форм эксплуатации. Конечно, связь между материальной жизнью и идеологией никогда не бывает простой (и меньше всего в случае с такой иррациональной идеологией, как расизм). Во всяком случае, de facto расизм сохраняется и без расовой идеологии. На самом деле именно крах расизма de jure на Юге и открытие расизма, прикрываемого идеологией терпимости, de facto на Севере служит отличительной особенностью современного состояния расовой проблемы в Соединенных Штатах. Однако идеология белого превосходства, по-видимому, больше не выполняет сколько-нибудь важных социальных функций. “Военный мачизм”, как называет его Пол Хоч, точно так же неуместен в эпоху технологической войны. Военная этика, которая требует от спортсмена или солдата подчинения общей дисциплине, принесения себя в жертву ради высшего дела, подвергается эрозии организационной привязанности в обществе, где мужчины и женщины воспринимают любые организации в штыки, даже организации, в которых работают они сами. В спорте, как и в бизнесе, групповая лояльность больше не способствует смягчению соперничества. Индивиды стремятся эксплуатировать организацию с выгодой для себя и преследовать свои интересы в борьбе не только с конкурирующими организациями, но и со своими коллегами по команде. Командный игрок, как и человек организации, становится анахронизмом. Утверждение, что спорт способствует нездоровому духу соперничества, требует уточнения. Поскольку спорт оценивает индивидуальные достижения по абстрактным критериям качества, поощряет сотрудничество между членами команды и навязывает правила честной игры, в нем выражается — но также дисциплинируется — стремление к соперничеству. Кризис спортивного соперничества сегодня вызван не сохранением воинской этики, культом победы или одержимостью рекордами (которую некоторые критики все еще считают “основным кредо спорта”), а крахом правил, которые прежде ограничивали соперничество, несмотря на его прославление. Афоризм Джорджа Аллена — “победа не просто важна, она — единственное, что имеет значение” — отражает отчаянную защиту командного духа перед лицом его вырождения. На самом деле такие высказывания, обычно приводимые в качестве свидетельства слишком большого внимания к соперничеству, позволяют удерживать его в узде. Вторжение рынка во все уголки спортивной сцены воссоздает все антагонизмы, характерные для позднекапиталистического общества. Нет ничего удивительного в том, что критика соперничества стала основной темой в складывающейся критике спорта. Люди сегодня связывают соперничество с безграничной агрессией и не представляют себе соперничества, которое не вело бы к мыслям об убийстве. Кохут пишет об одном из своих пациентов: “Даже будучи ребенком, он боялся соперничества из-за связанных с ним фантазий об абсолютной, садистской власти”. Герберт Гендин говорит об одном из студентов, которого он анализировал и интервьюировал в Колумбии, что “они не представляют себе соперничества, которое не ведет к уничтожению кого-либо”. Преобладание таких страхов помогает объяснить, почему у американцев все более вызывает беспокойство соперничество, если специально не оговаривается, что победа и проигрыш не имеют значения или что это всего лишь игра. Отождествление соперничества с желанием уничтожить противника лежит в основе осуждения Доркас Батт состязательных видов спорта, которые якобы превращают нас в нацию милитаристов, фашистов и алчных эгоистов, поощряет “дурные игры” во всех социальных отношениях и искореняет сотрудничество и сочувствие. Им вызван и жалобный всхлип Пола Хоча: “Зачем вообще беспокоиться о счете или победе в игре? Разве не достаточно просто наслаждаться ею?” По всей вероятности, те же опасения лежат в основе желания Джека Скотта найти “равновесие” между соперничеством и сотрудничеством. Он утверждает, что “состязательные виды спорта представляют проблему, когда равновесие нарушается в пользу соперничества”. Спортсмен должен стремиться к успеху, но не “за счет себя самого или других”. Эти слова отражают убеждение в том, что успех обычно достигается за счет других, что соперничество обычно становится жестоким, если его не уравновешивает сотрудничество, и что спортивное соперничество, если его не сдерживать, может привести к самым ужасным проявлениям человеческой агрессии. Бюрократия и “командная работа” Преобладающей формой социального взаимодействия сегодня служит антагонистическое сотрудничество (как назвал его Дэвид Рисмен в “Одинокой толпе”), в котором культ командной работы скрывает борьбу за выживание в бюрократических организациях. В спорте соперничество между командами, неспособное больше опираться на местные или региональные лояльности, сводится (как и соперничество между деловыми корпорациями) к борьбе за долю на рынке. Профессиональный спортсмен не заботится о победе или проигрыше своей команды (поскольку проигравшие все равно получат свою долю) до тех пор, пока он остается в деле. Профессионализация спорта и распространение профессионального спорта в университетах, которые теперь служат системой выращивания игроков для высшей лиги, разрушают старый “школьный дух” и прививают спортсменам деловой подход к своему ремеслу. Спортсмены относятся к пафосным речам старомодных тренеров с недоуменным цинизмом и они вовсе не готовы просто так подчиняться авторитарной дисциплине. Быстрый рост привилегий и частота смены мест мешают возникновению местной лояльности — как у игроков, так и у зрителей — и обрекают на провал попытки построить “командный дух” на патриотизме. В бюрократическом обществе все виды корпоративной лояльности утрачивают свою силу, и хотя спортсмены по-прежнему связывают свои собственные успехи с успехом команды, они просто стремятся облегчить свои отношения с коллегами и не считают, что интересы команды как корпорации важнее индивидуальных интересов. Напротив, спортсмен как профессиональный предприниматель преследует прежде всего свои собственные интересы и охотно продает свои услуги тому, кто предлагает самую высокую цену. Лучшие спортсмены становятся телевизионными знаменитостями и получают дополнительный доход от рекламы, который зачастую намного превышает суммы, прописанные в спортивных контрактах. Поэтому спортсмена все труднее считать местным или национальным героем, представителем своего класса или расы или вообще представителем некой крупной корпоративной единицы. Признание того, что спорт — это форма “развлечения”, служит оправданием огромных выплат “звездам” и их постоянного мелькания в средствах массовой информации. Говард Коселл открыто заявил о том, что спорт больше нельзя продавать публике “только как спорт или как религию”. “Спорт — это не вопрос жизни и смерти. Спорт — это развлечение”. И хотя телезрители признают спортивные состязания разновидностью зрелища, многие “звезды” спорта недовольны тем, что агенты обсуждают огромные гонорары у них за спиной и не желают заниматься рекламой и продвижением товаров. Все это свидетельствует о сохранении уверенности в том, что спорт — это не просто развлечение и что, хотя он и не является вопросом жизни и смерти, он все же способен придать драматизм и остроту подобным переживаниям. Спорт и индустрия развлечений Секуляризация спорта, которая началась, когда занятия физической культурой были поставлены на службу патриотизму и воспитанию силы воли, завершилась с превращением спорта в объект массового потребления. Первым этапом этого процесса было введение занятий спортом в университетах и их распространение из “Лиги плюща” в крупные общественные и частные колледжи и дальше в средние школы. Бюрократизация бизнеса, придававшего особое значение соперничеству и воле к победе, также способствовала росту занятий спортом. Именно тогда получение дипломов об образовании стало считаться важной составляющей деловой или профессиональной карьеры, и сложился новый вид студента, которому было безразлично высшее образование, но который вынужден был заниматься его получением исходя из экономических соображений. Масштабные спортивные программы помогали колледжам привлекать таких студентов, снижая плату за обучение при приеме и развлекая после зачисления. Согласно Дональду Мейеру, возникновение в конце XIX века “культуры выпускников”, связанной с клубами, братствами, различными церемониями и футболом, было обусловлено потребностью колледжей не только в получении значительных средств, но и в привлечении “клиентуры, которой были безразличны учебные классы, но которая ни в коем случае не была готова отправлять своих восемнадцатилетних сыновей в свободное плавание”. В Нотр-Даме, как замечает Фредерик Рудольф, “межуниверситетские спортивные состязания... сознательно культивировались в 1890-х годах как средство для привлечения новых студентов”. Как писал в 1878 году Маккош, ректор Принстонского университета, своим выпускникам в Кентукки: “Вы окажете нам большую услугу, если посетите колледж, о котором говорилось в луисвилльских газетах... Нам нужно и дальше привлекать студентов из ваших мест... М-р Брэнд Баллард пользуется у нас репутацией капитана футбольной команды, разгромившей и Гарвард, и Йель”. Для размещения растущих орд зрителей колледжи и университеты, иногда при поддержке местных деловых кругов, строили дорогостоящие спортивные сооружения —огромные крытые манежи и футбольные стадионы в претенциозном имперском стиле начала XX века. Растущие вложения в спорт, в свою очередь, привели к растущей потребности в сохранении побед: новая забота о системе, эффективности и устранении рисков. По инициативе Уолтера Кэмпа в Йеле были введены постоянные тренировки, дисциплина и командная работа. Как и в промышленности, необходимость координации действий многих людей создавала потребность в “научном управлении” и увеличении числа руководителей. Во многих видах спорта количество тренеров, наставников, врачей и специалистов по связям с общественностью вскоре намного превзошло количество игроков. Результатом попытки руководства свести выигрыш к чему-то обыденному, к оценке эффективности исполнения стало накопление огромных массивов сложных статистических данных. Сами спортивные состязания, окруженные обширным аппаратом информационной поддержки и рекламы, теперь казались только поводом для дорогостоящей подготовки к их проведению. Появление новой разновидности журналистики — желтой журналистики, первопроходцами в которой стали Херст и Пулитцер и которая занималась продажей сенсаций, а не новостей, — способствовало профессионализации любительского спорта, подчинению спорта рекламе и превращению профессионального спорта в крупную самостоятельную отрасль. До 1920-х годов профессиональный спорт —там, где он вообще существовал, — не привлекал сколько-нибудь значительного внимания общества. Даже бейсбол, самый старый и самый организованный профессиональный вид спорта, страдал от связанных с ним сомнительных ассоциаций — его привлекательности для рабочего класса и выходцев из деревни. Когда выпускники Йеля пожаловались Уолтеру Кэмпу на слишком большое внимание, уделяемое футболу, он, чтобы драматизировать опасность, не придумал ничего лучшего, чем сослаться на пример бейсбола: “Язык и сцены, которые слишком часто наблюдаются [в футбольных играх], ведут к деградации студентов колледжей и ставят их в один ряд или даже ниже со средними профессиональными бейсболистами”. Скандал 1919 года на чемпионате по бейсболу подтвердил дурную репутацию этого вида спорта, но также привел к реформе Кеннесо Маунти Лэндиса, нового специального уполномоченного, назначенного хозяевами команд для обеспечения чистоты игры и спасения ее доброго имени. Режим Лэндиса, успех широко почитаемых и умелых “Нью-йоркских янки” и культ “Малыша” Рута вскоре сделали профессиональный бейсбол главным развлечением Америки. Рут стал первым современным спортсменом, которого публика любила не только за его выдающиеся способности, но и за его “яркость, индивидуальность и привлекательность для толпы” (Грэнтланд Райс). Его представитель по связям с общественностью Кристи Уэлш, организатор синдиката “литературных негров”, писавшая книги и статьи от имени героев спорта, организовывала агитационные поездки и принимала рекламные предложения и роли в кино, способствуя тем самым превращению “Короля удара” в знаменитость.[9] Четверть века спустя после окончания Второй мировой войны предприниматели расширили способы массовой рекламы, прежде всего, распространив маркетинг футбола в колледжах и профессионального бейсбола на другие профессиональные виды спорта, особенно хоккей и баскетбол. Телевидение сделало для этих игр то же, что массовая журналистика и радио сделали для бейсбола, подняв их на новые высоты популярности и в то же самое время сведя их к простому развлечению. В своем недавнем исследовании, посвященном спорту, Майкл Новак отмечает, что телевидение снизило качество спортивных репортажей, освободило дикторов от необходимости описывать ход игры и побудило их принять стиль профессиональных шутов.[10] Вторжение в спорт “этики зрелищ”, согласно Новаку, разрушило грань между ритуальным миром игры и унылой реальностью, от которой она помогала спасаться. Журналисты, вроде Говарда Коселла, который олицетворяет собой “желчную страсть к разоблачениям”, ошибочно переносят критические стандарты, больше подходящие для политических репортажей, на освещение спортивных соревнований. Газеты рассуждают о “деловой стороне” состязаний на спортивной странице, а не в разделе с деловыми новостями. Новак утверждает, что “важно... разделять спорт, бизнес, политику и сплетни... Сохранение областей жизни, не связанных с политикой и работой, необходимо для человеческого духа”. И когда политика становится “грязным и уродливым делом” и служит опиумом для народа, только спорт, с точки зрения Новака, позволяет увидеть что-то “настоящее”. Игры ведутся в “мире вне времени”, который следует отделять от наблюдаемого повсюду разложения. Отдых как спасение от реальности Выстраданный протест настоящего болельщика, относящегося к спорту с благоговением и видящего только внутреннее разложение, вызванное “этикой зрелищ”, объясняет вырождение спорта не лучше, чем осуждение левых критиков, желающих отменить соревнования, подчеркивающих оздоровительную ценность спорта и выступающих за большее “сотрудничество” в нем — иными словами, отстаивающих превращение спорта в средство личной и социальной терапии. И в анализе Новака недооценивается величина проблемы и неверно истолковываются ее истоки. В обществе, где господствует производство и потребление образов, ни одна область жизни не может долгое время сохранять независимость от зрелищ. Причем в этом вторжении зрелища повинен сам “дух разоблачения”. Парадоксальным образом он возникает из попытки создать отдельную сферу досуга, свободную от мира работы и политики. Хотя игра всегда по самой своей природе отделена от обыденной жизни, она в то же самое время сохраняет органическую связь с жизнью общества благодаря своей способности драматизировать действительность и предлагать убедительное отражение ценностей этого общества. Древние связи между играми, ритуалами и общественными праздниками свидетельствуют о том, что, несмотря на ограничение игр произвольными рамками, они все же укоренены в общих традициях, объективно выражаемых ими. Игры и спортивные состязания служат драматическим дополнением реальности, а не спасением от нее — восстановлением традиций сообщества, а не отказом от них. И когда игры и спортивные состязания начинают считаться формой спасения от реальности, они больше не могут служить таким спасением. Появление в истории эскапистской идеи “отдыха” совпадает по времени с организацией досуга как продолжения товарного производства. Те же силы, которые организовывали производство как сборочные линии, теперь организовали также досуг, сведя его к придатку промышленности. Как отмечала Марта Вольфенстейн в своей статье о “морали веселья”, труд теперь “пронизывает поведение, которое прежде ограничивалось временем после работы” (манипулирование личными отношениями в интересах политической или экономической выгоды), тогда как игра “оценивается по стандартам успеха, прежде применявшимся только к работе”.[11] В современном спорте преобладает не столько стремление к победе, сколько отчаянное желание избежать поражения. Тренеры и организационный аппарат прилагают все усилия, чтобы избежать риска и неопределенности, составляющих основу ритуального и драматического успеха всякого состязания. Спортивные соревнования утрачивают способность воодушевлять игроков и зрителей и выходить на время за рамки этого мира. Благоразумие и расчет, столь важные в повседневной жизни и столь противные духу игры, начинают пронизывать спортивные состязания, как и все остальное. Сожалея о подчинении спорта развлечениям, Новак считает самоочевидным разделение работы и досуга, которое делает возможным такое вторжение в игру стандартов обыденного мира. Он не видит, что вырождение игры имеет свои корни в вырождении труда, которое создает потребность в коммерциализированном “досуге”. Как показал Хейзинга, именно тогда, когда элемент игры исчезает из права, государственного управления и других культурных форм, люди обращаются к игре, чтобы не замечать драматических изменений в своей повседневной жизни, предаваясь развлечениям и острым ощущениям. В этот момент игры и спорт, вовсе не считающиеся серьезными занятиями, как ошибочно полагает Хейзинга, становятся “вещью, которая не влечет за собой никаких последствий”. В своем анализе современного искусства, которое поднимает те же вопросы, что и недавняя история спорта, Эдгар Уинд отмечает, что тривиализация искусства неявно присутствовала в модернистском возвеличивании искусства, которое исходило из того, что “восприятие искусства только усилится, если оно будет отделено от повседневных привычек и забот”.[12] Идеология модернизма стремится закрепить маргинальный статус искусства в обществе, одновременно открывая возможность для вторжения коммерциализированной эстетической моды — процесса, который достигает своей наивысшей точки в постмодернистском требовании отмены искусства и его уподобления “реальности”. Развитие спорта идет по той же траектории. Попытка создания отдельной области чистой игры, полностью изолированной от работы, приводит к появлению ее противоположности — утверждения, по словам Коселла, что “спорт представляет собой не что-то отдельное от жизни, особую "Страну чудес", отличающуюся чистотой и святостью”, а бизнес, подчиняющийся одним и тем же правилам и открытый для наблюдения, как и любой другой. Позиции, представленные Новаком и Коселлом, симбиотически связаны и обусловлены одним и тем же историческим процессом: возникновения зрелища как преобладающей формы культурного выражения. Попытка наполнить спорт религиозным смыслом и сделать из него суррогатную религию привела к его демистификации и подчинению шоу-бизнесу. Перевод с английского Артема Смирнова [1] Christopher Lasch. The Culture of Narcissism. [2] Roger Caillois. The Structure and Classification of Games // John W. Loy Jr. and Gerald S. Kenyon, Sport, Culture, and Society (Macmillan, 1969). P. 49. [3] См.: Harry Edwards. The Sociology of Sport (Dorsey Press, 1973) and The Revolt of the Black Athlete (Free Press, 1969); Dorcas Susan Butt. Psychology of Sport (Van Nostrand Reinhold, 1976); Dave Meggye-sy. Out of Their League (Ramparts, 1970); Chip Oliver. High for the Game (Morrow, 1971); Paul Hoch. Rip Off the Big Game: The Exploitation of Sports by the Power Elite (Anchor Books, 1972); Jack Scott. The Athletic Revolution (Free Press, 1971). [4] Это не значит, что виртуозность — главное в спорте. Сравнивая между собой спорт и исполнение музыкальных произведений, я говорю о другом. Исполнитель, который стремится просто ослепить слушателей мастерской игрой, действует на самом низком уровне понимания, избегая сильного эмоционального отождествления с самим материалом. В большинстве блестящих исполнений исполнитель не принимает во внимание слушателей. В спорте большое значение имеет момент, который бывший баскетбольный игрок описывает как момент, “когда забываешь о зрителях, сидящих на трибунах”. Этот игрок, ставший теперь исследователем, потратил много времени, прежде чем понял, что он не представляет свою жизнь без спорта; но он понимает природу игры намного лучше Дейва Мэггиси, Чипа Оливера и других бывших спортсменов. Отвергая упрощенный радикализм, согласно которому “коммерциализация” привела к разложению спорта, он говорит: “Деньги [в профессиональном спорте] не имеют ничего общего с капитализмом, собственниками или профессионализмом”. [5] Games Big People Play // Mother Jones. September-October 1976. P. 43. 28 Кристофер Лэш [6] Во всяком случае распространенные рассуждения о необходимости более широкого участия в спорте не имеют отношения к обсуждению его культурного значения. С тем же успехом можно оценивать будущее американской музыки, посчитав число музыкантов-любителей. В обоих случаях участие может приносить большое удовлетворение, но ни в одном из них уровень участия ничего не говорит нам о статусе занятия. [7] Robert W. Malcolmson. Popular Recreations in English Society, 1750-1850 (Cambridge University Press, 1973). P. 70. [8] Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен восхищался англичанами и связывал их имперские успехи с влиянием спортивных тренировок на формирование характера. Филип Гудхарт и Кристофер Чатауэй в своем описании появления этого нового культа спорта, воспитания характера и империи показывают, что это новое представление о спорте было неразрывно связано с мировоззрением среднего класса, которое противостояло аристократической и народной традициям. Поскольку крикет, бокс и скачки приравнивались к азартным играм, средний класс пытался использовать спорт для пропаганды патриотизма и мужества. [9] Warren Susman. Piety, Profits, and Play: the 1920 s // Howard H. Quint and Milton Cantor, eds., Men,Women, and Issues in American History (Dorsey Press, 1975, vol. 2). Pp. 210-214. [10] Michael Novak. The Joy of Sports (Basic Books, 1975). Chapter 14. [11] Martha Wolfenstein. Fun Morality // Warren Susman ed., Culture and Commitment: 1929-1945 (Bra-ziller, 1973). P. 91. [12] Edgar Wind, Art and Anarchy (Vintage Books, 1969). P. 18. 40 Кристофер Лэш © «Логос» № 3 2006 Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||