 |
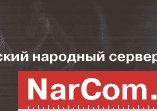 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Философия в России только начинается. Будем отвечать за самих себя – и тогда, быть может, действительно совершим что-нибудь такое, за что не стыдно и ответить.Автор, вслед за Джорджем Бернардом Шоу, призывает помнить, что жизнь не перестает быть серьезной оттого, что люди смеются, и не перестает быть смешной оттого, что они умирают. А. Перцев ...написать задачник, развивающий, попутно с навыками счета, моральное чувство и чувство исторической перспективы. В. Ерофеев. Бесполезное ископаемое 1. О деле мышления как деле сомнительном Кришнаиты удивительно похожи на пионеров: они везде ходят гурьбой и непрерывно поют, чтобы не думать. Одновременно петь и думать нельзя. Шествие с песней — вот средство обрести полную несмятенность души, наилучшее из всех, изобретенных человечеством за его долгую историю. Шествие без песни или песнопение без шествия помогают тоже, но значительно слабее. Вольный интеллектуал не любит ходить строем и не любит петь хором. Он вообще не любит ничего общего, обще принятого и рутинного, зато любит и смакует смятение в собственной душе. Его способ бытия состоит в том, чтобы во всем сомневаться. Он называет это делом мышления, что — странно. Поэтому начнем с удивления и продолжим исследованием. 2. Эрудит, или Интеллектуал на посылках На занятиях по развитию пролетарского мировоззрения всех долго учили, что мышление — не более как функция мозга. Подспудная классовая глубина этого тезиса состояла в неявном допущении: поскольку мозг есть у всех, то все, значит, и мыслят. Статус интеллектуала был существенно поколеблен этим нехитрым силлогизмом. Раз мыслят все, то зачем же тогда интеллектуал? Каков, спрашивается, тогда его отличительный признак? В поисках этого признака пролетарские аналитики с чувством собственного превосходства сошлись на том, что люди нормальные мыслят с пользой для дела, а вот интеллектуал мыслит... ну, как-то вообще. Какой-то он ...ну... как бы... типа... это... неконкретный. Нет, он, конечно, тоже может быть полезен в некоторых случаях. Но... Все-таки во всем надо знать меру. «Как бы тебе не заучиться, внучек...» — всегда опасались пролетарские бабушки, не говоря уже о высшем пролетарском руководстве. Проницательные бабушки и высшее руководство всегда смутно подозревали, что интеллектуал так и не станет просто работником умственного труда, каким его попытались назначить в новом обществе. Он способен усомниться во всем и всегда, а потому непредсказуем, словно обезьяна с гранатой. Хорошо, если он усомнится и откроет что-то новое, для всех полезное. А вдруг да примется подкапываться подосновы? Весь двадцатый век в России интеллектуала упорно пытались усовершенствовать: оставить в нем хорошее и отбросить плохое. Хорошим было то, что интеллектуал много знает. Плохим — то, что интеллектуал сомневается даже в том, что узнал сам, а уж тем более — в том, что знают все прочие. Спросишь его — он наговорит тебе с три короба всякого умственного, да тут же во всем этом и усомнится. Поэтому развернулась всероссийская кампания по переделыванию интеллектуала в знатока. Сейчас она уже близится к завершению, поскольку создан главный телеклуб знатоков и появляются его разнообразные дочерние предприятия, выявляющие самого умного повара недели. Люди наивные полагают, что телевикторины — передачи развлекательные. На самом деле это — глубоко воспитательные передачи, которые подвидом просвещения всячески искореняют его. Что бы нам, собственно, не предположить, что Некие Силы (каждый из читателей легко определит, на кого мы намекаем, по собственному вкусу) создали «Клуб телезнатоков» именно для того, чтобы свести настоящих интеллектуалов под корень? Ведь тот, кого здесь выдают за образец просвещенного интеллектуала на всю страну, таковым вовсе не является, даже в смокинге. Правила клуба прямо противоположны принципам Просвещения. Они сразу же определяют, что есть некий начальник, который заранее знает правильный ответ. Он строг, но справедлив, испытуя подчиненных: «А ну-ка, братцы, вот вам задачка: угадайте то, что я, начальник, уже знаю твердо. Не угадаете — вылетите. Незаменимых у нас нет. Вон, сидит целая студия и жаждет на ваше место. Угадаете, что я знаю — поощрю деньгами». Ситуация, в общем, знакомая. Повсеместная и житейская. Несметные телезрители, физиономии которых на фотографиях так и светятся самодовольством, мнят себя именно начальниками — пусть и начальниками на минуту, калифами на час. Зачитывание их вопроса есть миг их торжества и возмездия. В этот миг они мстят за всю свою неказистую жизнь, на протяжении которой их заставляли выкручиваться, угадывая, что думает начальство. (Впрочем, здесь мы выразились неточно: начальство не думает, оно знает, и происхождение этого знания — тайна великая и сакральная, на каковой тайне начальство, собственно, и держится.) Телезритель, посылая вопрос, заранее потирает руки. А ну, братец, теперь повертись, как я! Месть хронически угнетенных из глубинки, как это обычно бывает, направлена вовсе не на того, кто ее заслужил — не на всякое крупное и мелкое начальство, начиная с учителя младших классов и кончая сегодняшним самодуром-шефом. Направлена она, как всегда, на людей тихих и незлобивых, которые не только не способны показать кому-нибудь кузькину мать физически, но даже на откровенные злодейства и несправедливости собственного тирана-ведущего ничего возразить не могут. Так, разве что глухо поропщут, в традициях российской интеллигенции, однако даже из кустов не назовут плохим словом. Что же делают эти козлы отпущения, получив грозный начальственный вопрос? Они быстро начинают вспоминать то, что где-то когда-то читали — то есть знание уже готовое и не ими добытое. И проявляют при этом сказочные чудеса исполнительности. «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что!» — говорит победительный начальник. А подчиненный этаким фертом извернется и на тебе — уже несет откопанное сокровище, требуемое начальнику. Послал царь или поп работника, куда Макар телят не гонял, думал — сгинет, ан нет, вот он, тут как тут, уже следующего приказа ждет, шельма. И вот что поразительно массам — тело знатока все это время остается здесь же, у всех на глазах, в студии. Только невидимый ум на побегушках быстренько сгонял за тридевять земель, где успешно помел по амбарам и поскребло сусекам. Наловчилась наша невыездная интеллигенция путешествовать в мире книг да вглубь материи. Эта игра в идеального подчиненного почему-то называется интеллектуальной. Как ни доказывают обратное, никак доказать не выходит. И ведь доказывают уже довольно давно — веков двадцать шесть! Еще Гераклит высказался: «Многознание не научает уму» [1]. А Сократ решительно отказывался выступать в роли знатока как прирученного интеллектуала, утверждая, что знает только одно — что он ничего не знает. Правда, тот же Гераклит, столь презиравший многознание, выразился недвусмысленно: «Очень много должны знать мужи философы»[2]. Нет ли здесь какого противоречия? А никакого противоречия нет. Просто есть разница между мыслителем и экспертом. Мыслителю претит роль знатока, потому что он привык задавать себе вопросы сам. Если же признать такое право за другим, то сразу же поставишь себя в подчиненное положение. Поскольку право задавать вопросы есть первейшее право начальника. Это он, начальник, приходит и говорит: «Здесь вопросы задаю я!» И сразу видно, что он — начальник. Ему же, начальнику, принадлежит и монопольное право усомняться в знаниях подчиненного. Человек, принимающий роль эрудита, есть интеллектуал, прирученный властью. Эрудиция, сколь бы богатой она не была, остается знанием услужливым. Проявление готовности ответить на любой вопрос есть проявление готовности быть посланным в любые дали — и вернуться оттуда с тем, что потребно хозяину. Гордиться тут нечем. Ведь и пес на прогулке глядит в глаза владельцу, говоря всем преданным видом своим: «Куда бы ты ни закинул палочку, босс, я немедля смогу доставить ее тебе в наилучшем виде!» Нас сегодня пытаются убедить, что именно это и называется умом. Самый умный повар недели уверенно отвечает на вопрос телеведущей: «Между кем и кем была русско-японская война?» Различие между ним и знатоком из телеклуба, разумеется, значительно, но оно остается чисто количественным. Качественное отличие, возможно, состояло бы в том, чтобы сказать: «Я, конечно же, знаю много, но за твоей палочкой не побегу. Вначале докажи свое право бросать ее. Не докажешь — будешь бегать за моей». Именно так, в сущности, поступал Сократ. Изгнанный из дома сварливой женой Ксантиппой, он стоял на углу в Афинах и принимал ходоков. Ходоки являлись из разных концов Древней Греции, делая вид, что ищут мудрости. На самом деле такое их устремление представляется чересчур возвышенным, чтобы быть правдой. Все они, ходоки, чему-то где-то поучились, отчего почувствовали себя дерзостно, и отправились испытывать разных авторитетных мыслителей — так ли те умны, как они сами. Идеальный итог таких путешествий, сладостно предвкушаемый уже до их начала — сказать по возвращении в свою деревню-государство [3]: «Бывал в Афинах, видал Сократа. Неглуп, конечно. Но на пару моих вопросов все-таки не ответил». Сократ обескураживал ходоков с самого начала, лишая их права вынести начальственное суждение. Он предварял их снисходительный вердикт собственным, значительно более жестоким: « Я знаю только, что ничего не знаю». Озадаченный ходок умолкал, а затем начинал неуверенно потешаться: «Что же ты за мудрец такой, раз ничего не знаешь?» Сократ проникновенно спрашивал его: «А ты-то сам знаешь что-нибудь?» Ходок, еще не понимая случившегося превращения своего в раба-эрудита, принимался хвастать своими познаниями. Однако после наивных с виду, но весьма каверзных вопросов Сократа быстро начинал путаться и, наконец, признавал, что не знает ничего. «Вот! — с притворным вздохом констатировал Сократ. — Оказывается, мы оба ничего не знаем. Давай же вместе искать истину». Здесь, в этом притворном смирении, и скрывалась самая хитрая хитрость Сократа. Он бы не стал звать на поиски истины, если бы действительно не знал ничего. Звать можно только в том случае, если ты а) знаешь, что существует истина и б) знаешь, что ее можно найти. Но откуда же ты можешь знать, что истина существует и что ее можно найти, если ты уже не нашел ее раньше? На самом-то деле Сократ уже нашел истину, то есть определил, что ею является, заранее. И теперь своими умелыми вопросами подталкивал ходока к обнаружению этой истины. Он, зная истину и выступая в роли начальника, хотел оставаться начальником тайным. Он, Сократ, был тонким знатоком человеческой психологии. Изучив Ксантиппу, он постиг, что человеку свойственно противиться: скажи ходоку, что истина состоит в том-то и в том-то, он назло тебе будет полагать противоположное. Но если оставить ходока в убеждении, что он отыскал истину самостоятельно, он будет готов умереть за нее, как за родные стены. Так что Сократ мятущимся интеллектуалом отнюдь не был. Он даже сомневался как-то тоталитарно. Если почитать платоновские диалоги, то сократовским собеседникам — всяким там Федрам да Главконам — оставалось только поддакивать. «Как же!», «А то!», «Еще бы!»— вот и все их реплики. А Платон, надо думать, писал своего Сократа с натуры. Да и сам был его достойным учеником. Чего стоит одна платоновская идея интерната навыворот: чтобы воспитать граждан идеального государства, из города надо выселить всех взрослых, чтобы они не портили молодежь своим дурным примером, и оставить в городе одних детей под руководством верховного педагога. Кого он планировал на роль этого верховного педагога, понятно. А стопроцентные педагоги не сомневаются никогда! Современный же интеллектуал — это интеллектуал мятущийся. Как-то не хватает ему сократовской харизмы, чтобы заразить всех своим тоталитарным сомнением раз и навсегда. Чтобы все дружно колебались вместе с его генеральным курсом. Современный интеллектуал сомневается не понарошку. Он сомневается со вкусом, отдаваясь этому занятию всецело — душой и телом, представляющим собой зримый знак вопроса. Он, разумеется, против властей. Сотрудничество с ними он считает великим позором. Но и оппозиция не вызывает у него никакого восторга. Он против веры, но точно так же против неверия. Нынешнее состояние экономики и политики, образования и культуры внушает ему глубокий пессимизм. Но вчерашнее — еще больший. «Когда в толпе ты встретишь человека, Который наг; Чей лоб мрачней туманного Казбека, Неровен шаг; Кого власы подъяты в беспорядке; Кто, вопия, Всегда дрожит в нервическом припадке, Знай: это я! Кого язвят со злостью вечно новой, Из рода в род; С кого толпа венец его лавровый Безумно рвет; Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, Знай: это я! В моих устах спокойная улыбка В груди — змея!» [4] Веселая компания, сотворившая Козьму Пруткова, потешалась, впрочем, не над интеллектуалом как таковым. Ее забавляло случившееся в массовом порядке превращение формулы «Интеллектуал — это тот, кто сомневается во всем» в формулу «Тот, кто сомневается во всем — интеллектуал». Ее смешило, что мятущимся интеллектуалом мнит себя даже редкостный балбес вроде Козьмы Пруткова, на самом деле мыслящего сугубо аксиомами. Однако повальная мода на обличительную литературу с тех пор захватила в России даже балбесов. Вселенский стон и плач о гибнущей России сделался верным признаком интеллигентного человека. Целая армия литераторов по сей день повально учит обличать на школьных уроках литературы. (Хорошо еще, что она делает это нудно и не особенно успешно!) Что бы ни сделал кто нового, а самопровозглашенная больная совесть нации уже тут как тут: здесь у тебя, братец, вышло неладно, тут ты кого-то обидел, здесь кого-то ущемил. А ведь мировая гармония не стоит ничего, если при ее установлении заплакал хотя бы один ребенок! «Тьфу ты! — говорит обескураженный деятель. — Впредь ничего не буду делать, чтоб никто, не дай Бог, не заплакал!» А больная совесть обличает опять: «Вот до чего дошло! Погляди-ка! Никто ничего не делает! Пропала Россия!» Миллионы Чацких, взращенных отечественной школой, записались в журналисты. Бабушка, у которой прорвало канализацию, стала наиболее популярным телеперсонажем. Все новости свелись к ней. Если верить телевидению, которое умалчивает о производимых Фамусовым ремонтах, кажется — все, Россия утопла окончательно. Хэппи-энд навсегда объявлен признаком обывательского американского бескультурья. Наш высококультурный конец должен быть безмерно печален. Чтобы они все умерли и сия пучина поглотила всех. А остальные заплакали, сострадая. Мы не любим Бэтмэна. Наш герой — Дон Кихот: еще недавно он стоял, в чугунном каслинском исполнении, на столе у каждого интеллектуала — в одной руке шпага, в другой — книга. Этакий рыцарь добра. Даже фильм такой всесоюзно демонстрировался — «Дети Дон Кихота». Про главврача родильного дома, который усыновил троих детей— всего троих, брошенных за двадцать с лишним лет его работы в этом учреждении. Зритель выходил с фильма счастливый и радостный: добро вот-вот победит! А если кто-то кое-где у нас порой кое-когда, то добрый и начитанный рыцарь шпагой его, шпагой! Мало кто в России (да и не только в ней!) был настолько усидчив, чтобы дочитать великое творение Сервантеса до конца, хотя и принимался по нескольку раз. Для этого, видимо, надо быть усидчивым испанцем, способным неспешно смаковать тонкие нюансы — вроде отличия конкисты от реконкисты. Да и не было в обстоятельном чтении никакой нужды. Машина советского мифотворчества умело подгоняла произведения мировой культуры под свои надобности. Она вначале выделяла в них одну главную мысль, опуская все излишнее, а затем вкладывала в эту мысль свое собственное, правильное содержание. Первым делом она выделяла положительного героя (хотя, если вдуматься, понятие «отрицательный герой» также бессмысленно, как понятие «положительный минус»). Затем она объясняла трудящимся, в чем, собственно, состоит его подвиг. Если поиски положительного героя, которого можно было использовать для пролетарского назидания, не увенчивались успехом, раздраженный потерей времени литературовед-воспитатель объявлял всех тщетно изученных им персонажей «лишними людьми». Это почему-то считалось гуманизмом. Хотя из констатации, что образовались лишние люди, следовали вполне конкретные практические выводы... Вот характерный пример: миллионы юных пионеров были вдохновляемы светлым образом горьковского Данко, который вырвал горящее сердце из своей груди и повел за собою народ, освещая ему путь во тьме. В этом, как наставляли на уроках литературы, и состоял подвиг положительного героя. Ненужные детали были опущены: никто не вспоминал, что Данко все-таки умер, оставшись без жизненно важного органа, а неблагодарная толпа прошлась по его сердцу ногами. Так вышло и с Дон Кихотом: он тоже был назначен положительным героем — светлым и высококультурным рыцарем добра, готовым самоотверженно сражаться за него. Излишнее в этом образе тоже было опущено: как-то не афишировалось, что тщедушный Дон Кихот был бит всеми, кому не лень, а великаны, с которыми он сражался, на поверку оказались ветряными мельницами. Именно то, над чем иронизировал Сервантес, превратилось у нас в верный признак высокой духовности. Какой он милый и трогательный, храбрый и справедливый, этот рыцарь добра и культуры, этот Дон Кихот! Вот у кого надо учиться жизни! Так надевайте себе тазик на голову! Вон вам зловещие великаны на горизонте, идите туда подальше и боритесь там с ветряными мельницами, чтобы не путаться под ногами у людей серьезных, занятых отправлением власти. И заранее готовьтесь быть битыми: из этого пламени вы выйдете более духовными и очищенными. Как Васисуалий Лоханкин. Древние греки, на сегодняшний интеллектуальный взгляд, рассуждали довольно странно. Они полагали, что человек мыслит не только головой, а всем телом. Как же иначе? Ведь душа управляет всем телом, а потому должна присутствовать в нем повсеместно. Стало быть, она повторяет контуры тела. А потому мыслить красиво может только прекрасно сложенный, тренированный человек. Пифагор был мастером кулачного боя. Платон — известным гимнастом. А в теле уродливом — уродливая душа, которая ничего прекрасного создать не способна. Только у нас тщедушность, осложненная букетом заболеваний (желательно наследственных), есть верный признак красоты души. И тщательное развитие сколиоза у школьников — первый шаг к ней. Хотя, признаться, даже Некрасов, радетель за хилое и обиженное российское крестьянство, которому на Руси жить плохо, был несколько непоследователен. Плакальщик по мужику, не сжавшему свою полоску по болезни, он восхищался статями бабы: Идет эта баба к обедне Пред целой семьей впереди. Сидит, как на стуле, трехлетний Ребенок у ней на груди. Да, именно так выглядела та самая назначенная позднее положительной героиней баба, которая останавливала на скаку коня. Но стоит прикинуть размеры и вес трехлетнего ребенка, чтобы призадуматься: откуда же взялись ультра-рубенсовские формы его импровизированного стула при всеобщей нищете, униженности и оскорбленности? Полно, впрочем, потешаться над причудливыми эротическими пристрастиями поэта-гражданина. Ведь он вовсе не ограничивается их описанием, как ограничился бы какой-нибудь нечестивый поручик Ржевский. Он пытается нагрузить эти пристрастия неким культурным сверх-смыслом. Речь в своем выдающемся стихотворении он ведет вовсе не о корпулентной женщине как таковой. Да, если вдуматься, и не о женщине вообще. Она в данном случае — просто суровое и добродетельное дитя природы. Или, если хотите, сама Природа как таковая. К глубокому возмущению всех нынешних исследователей тендерной проблематики, поэт-гражданин ничего не говорит об особенностях мышления своей лирической героини. Но винить его за это трудно. Ведь даже самый большой знаток Античности не сможет нам сказать, в чем именно состояла философия Геракла. Возможно, у него даже и не было никакой философии. Геракл самовыражался иначе, совершая подвиги. Точно так же и некрасовская дама самовыражается в поступках, а не в мышлении. Она останавливает коня и входит в горящий дом, даже не определившись сколько-нибудь строго с соответствующими понятиями. У нее есть серьезные основания полагать, что дом успеет сгореть еще во время размышления об исходных дефинициях. Некрасовская женщина — это Природа, которая не прибегает к мышлению. Отсюда — вся ее сила и все ее здоровье. Верно, надо полагать, и обратное: всякое сомневающееся мышление проистекает только от неспособности жить по-природному. И психические заболевания — тоже. Именно такой точки зрения держался родоначальник медицины Гиппократ. Мозг, по его мнению, определяет все в человеческой жизни. Но вот состояние мозга определяется вовсе не им самим, а Природой, регулирующей циркуляцию жидкостей в нашем организме: «Полезно также знать людям, что не из иного места возникают в нас удовольствия, радости, смех и шутки, как именно отсюда (от мозга), откуда также происходят печаль, тоска, скорбь и плач. И этой именно частью мы мыслим и разумеем, видим, слышим и распознаем постыдное и честное, худое и доброе, а также все приятное и неприятное, различая отчасти все это по устоявшемуся обычаю, а отчасти по той пользе, которую получаем. Этою же частью мы распознаем удовольствия и тягости, смотря по обстоятельствам, и не всегда нам бывает приятно одно и то же. От этой же самой части нашего тела мы и безумствуем, и сумасшествуем, и являются нам страхи и ужасы, одни ночью, другие днем, а также сновидения и заблуждения неуместные, заботы беспричинные; отсюда также происходит у нас незнание настоящих дел, неспособность и неопытность. И все это случается у нас от мозга, когда он нездоров и окажется теплее или холоднее, влажнее или суше своей природы или вообще когда он почувствует другое какое-нибудь страдание, несообразное со своей природой и обычным состоянием. Безумие случается у нас от влажности, ибо когда мозг влажнее, чем требует природа, то он по необходимости приходит в движение, и, когда волнуется, тогда по необходимости ни зрение, ни слух не находятся в спокойном состоянии, но иногда совсем иное видят и слышат, а язык произносит все то, что больной каждый раз видит и слышит. <...> Но порча мозга происходит от слизи и желчи...» [5]. Если тело, живущее сообразно с природой, нормально увлажнит мозг, никаких отклонений в психике просто не возникнет. Будет достаточно в тебе слизи и желчи — не разовьются никакие пагубные сомнения и душевные терзания. Надо быть ближе к природе. Но до какой степени близко? Может быть, для абсолютного психического здоровья и спокойствия стоит слиться с ней воедино? И превратиться в животное, от природы себя не отличающее? 3. Равнение — на животное! Во всей истории философии был, пожалуй, только один мыслитель, который с полной серьезностью поставил животное в пример человеку. Звали этого мыслителя Арнольд Гелен. Он принадлежал к числу тех научных маргиналов, которых философы считают биологами, а биологи — философами. Человек предстал на страницах трудов А. Гелена несовершенным животным, которое с момента появления на свет лишено спасительного единства с природой. По этой причине нормальное животное выступает для человека образцом и идеалом, к которому он стремится всю свою жизнь: «Человек брошен в мир безоружным, неспециализированным, лишенным инстинктов, то есть неприспособленным. Мир этот именно потому так чудовищно богат содержанием, что он подавляет и наводняет впечатлениями существо, лишенное защищающей органической ограниченности, которой обладает животное, находящееся в гармонии с окружающей средой»[6]. Ставить животное в пример человеку во все века считалось верхом цинизма. Однако рассуждения А. Гелена были преподнесены настолько наукообразно, что никому из его соотечественников даже не пришло в голову негодовать и возмущаться. Впрочем, даже если бы и пришло, такому возмущению быстро был бы положен конец: нацистский режим, при котором А. Гелен снискал полное академическое признание, был вполне удовлетворен его антропологическими идеями. Итак, животное, как утверждал А. Гелен, идеально приспособлено к окружающей среде. У него есть инстинкты, которые, во-первых, выбирают из всей информации, поступающей из мира, только биологически важное: сигналы о пище, сексуальном партнере, опасности и убежище. Ничего кроме этого животное просто не воспринимает: фильтры инстинктов не пропускают лишнего. Во-вторых, инстинкты, отобравшие жизненно важную информацию, немедленно предлагают животному однозначный способ реакции на нее. Животному не приходится раздумывать ни секунды. Оно тут же отвечает действием: пожирает пищу, если голодно, вступает в сексуальный контакт немедля по возникновении соответствующей потребности, стремительно убегает от опасности, скрываясь в убежище. Человек же, если сравнивать его с животным, выступает как существо, определяемое недостатками (Mangelwesen) — прежде всего потому, что у него нет инстинктивной регуляции жизни. По этой причине он совершенно открыт для всякой ненужной, но будоражащей его информации. Пустые, ничтожные в биологическом отношении раздражители действуют на него без всяких помех, вызывая никчемную суету. Человек глазеет на витрины гастрономов даже тогда, когда не голоден. И вообще зависимость от рекламы, навязывающей лишнее, представляет собой наивысшее проявление человеческой ущербности. Свидетельством тому — популярное у американцев развлечение, именуемое «шопингом»: человеку, в сущности, не нужно ничего определенного, но он слоняется по магазинам, выясняя, что там продается и чего бы ему еще захотелось захотеть. Самец животного не испытывает никакого сексуального влечения к самке, пока у той не наступит достаточно кратковременный период течки. Все остальное время нет никакого биологического смысла распаляться и переживать. Человек, не оберегаемый инстинктами-фильтрами, вынужден реагировать на противоположный пол круглогодично — даже тогда, когда у него нет ни малейшего намерения размножаться. Такая постоянная сексуальная перевозбужденность характерна, по Гелену, для изнеженных одомашненных животных, которых развратил по образу и подобию своему человек — существо, само себя одомашнившее. Всякого рода триллеры, детективы и боевики обременяют человека придуманными, чужими опасностями — будто ему не хватает реальных. Он любит пощекотать себе нервы. Излюбленные развлечения его детства — качели, замки ужасов, американские горки — сменяются разнообразным «экстримом» в более зрелом возрасте. Человек обожает бояться и смакует свой страх. Это ли не биологическая ущербность? Откуда же, спрашивается, тут возьмется душевное равновесие? Так обстоит дело с опасностью. А с убежищем? Здесь тоже все весьма плачевно в биологическом смысле. Так называемое искусство архитектуры есть, в сущности, еще одно проявление ущербности: человек впустую глазеет на чужие дома и даже на их изображения на картинках. Мыслимо ли, чтобы биологически мудрое животное шлялось по чужим норам вместо того, чтобы заботиться о своей? Ни одна кошка не станет переживать и мучиться от неразделенной страсти, если повесить над ее ложем фотографию сексапильнейшего из котов. Но поглядите на человеческих тинейджеров! Да только ли на тинейджеров! А полчища репортеров так и снабжают, так и снабжают ущербного человека всяким возбуждающим информационным хламом, только и заботясь о том, как подать его поострее. Там-тарам-тарам-тарам! В эфире новость дня! В Гонолулу поезд переехал десять человек! А в городе Конотопе человек укусил собаку! И это — не все! Есть еще много важного и интересного! Там-тарам-тарам-тарам! Оставайтесь с нами! Мы вернемся в студию после рекламной паузы! Исполнение певицей Исельписель шлягера «Розы на Гаваях» [7] объявляется событием века: кто не слыхивал его, просто не выживет. Хит прошлой недели — «Ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже!»— опустился на три позиции вниз! Следите за музыкальными новостями! Неспособный перечислить двадцать лучших хитов месяца в обратном порядке, снизу вверх — совершенный урод, неуместный в обществе. Хуже его — только тот, кто не применяет нового поколения отбеливателей. Но не отчаивайтесь: мы уже идем к вам! Поток нефильтрованных раздражителей со всех концов света приводит в ненужное беспокойство и без того перегруженную психику человека цивилизованного. Но еще ужаснее то, что у человека нет инстинктов, которые немедленно подсказывали ему моментальный способ реакции на них. Все было бы не столь страшно, если бы человек реагировал на информационный потоп тут же, стремительно и немедленно. Отреагировал — и дело с концом: можно больше не переживать. Однако то, что именуется культурой, налагает запрет на такие простые и здоровые биологические реакции. Мерзкий тип, который орет на тебя и топает ногами, являет собой непосредственную опасность. Здоровое животное немедленно рявкнуло бы в ответ или вообще порвало бы агрессивную особь в клочья. А человек культурный развивает в себе терпение и толерантность, могучим усилием воли подавляя в себе желание погасить обидчика одним ударом. Здоровая животная агрессия обращается таким образом на собственную, уже изнуренную психику. Расплатой за культуру и демократию становятся вызванные ими болезни: инфаркты, инсульты, психозы и прочие язвы. Изобразив биологическую ущербность прогнившей буржуазной демократии с ее безудержной свободой слова, А.Гелен предложил верное средство сделать человека абсолютно здоровым психически. Раз уж природа обделила его инстинктами, то их спасительные функции должно взять на себя государство. Именно оно, во-первых, должно отбирать для человека только жизненно важную информацию, а во-вторых, сразу же предписывать, как на нее следует среагировать. Именно в обществе тоталитарном, где забота государства сопровождает каждый человеческий шаг, только и может быть достигнуто абсолютное психическое здоровье граждан: «...Институции общества, его организации, законы и стиль поведения, предстающие перед нами как хозяйственный, политический, социальный, религиозный строй — ... все эти институции функционируют как внешние подпорки (AuBenstiitzen)... Только они придают надежность внутренней стороне морали»[8]. Ущербного человека так и распирает от возбуждения, которое вызывается всякими лишними с биологической точки зрения раздражителями. Стало быть, государство должно постоянно подпирать его со всех сторон, и чем крепче — тем лучше. Информационный поток надлежит резко сократить: во всех газетах следует писать одно и то же, а еще лучше — вообще выпускать только одну, дублируемую по радио и телевидению. И новостей в ней должно быть немного — так, полосы на четыре. А каждое сообщение надлежит сопровождать ясными и четкими указаниями, как надлежит единодушно реагировать по этому поводу. Состоялся исторический пленум — краткое ликование, переходящее в трудовую вахту! Переворот в Гондурасе — немедля на митинг протеста! Появился зловредный диссидент — дружно осудили всем обществом и закрыли тему вместе с диссидентом! Лишнего об окружающем мире знать не следует, чтобы не раздражаться и не возбуждаться. Это пусть в разлагающихся демократиях существа ущербные усугубляют свою незавидную участь, читая всякую чушь про любимых собачек кинозвезд или знакомясь с заумными художественными исканиями шизофреников. Рано или поздно их внутренняя информационная помойка переполнится и лопнет без хороших внешних подпорок. Тут-то им, прогнившим демократиям, и конец. А мы, ограничив доступ вредоносной и излишней информации из внешнего мира, обеспечим человеку полную несмятенность души, с которой он займется простыми и здоровыми животными делами. Общества тоталитарные, надо сказать, преуспели в формировании человека, равняющегося на животное — такого, который реагирует исключительно на пищу, сексуального партнера, непосредственную опасность и убежище. Развивать эту тему нет нужды: достаточно прислушаться к широко бытующему матерному наречию русского языка, которое прекрасно передает нюансы животных переживаний. Укажем только на такую кажущуюся странность: сходный с тоталитарной идеологией взгляд на вещи можно обнаружить и в среде рафинированных интеллектуалов, которые, вроде бы, должны быть противниками тоталитаризма по самой сути своей. А ведь нет! Рафинированные интеллектуалы молчаливо соглашаются с тем, что большинство членов общества и должно по природе своей приближаться к психическому здоровью животного. Пусть себе жрут, пьют, размножаются, строят себе убежища за высокими каменными заборами. Чем откровеннее они станут это делать, тем лучше. Тем импозантнее на таком фоне будет выглядеть рафинированный интеллектуал. Тем легче ему будет опознавать себе подобных, умеющих смаковать отсутствие животного психического здоровья. Именно неживотность, в представлении рафинированного интеллектуала, и есть первопричина духовности. Искусство, к примеру, возникает именно от неспособности жить естественной, нехитрой природной жизнью. Вспомним известный фрейдистский пример. Кенарь в природе поет, чтобы приманить самку. После ее появления всякие песни прекращаются — уже не до того. Надо вить гнездо и выводить птенцов. Но если кенаря запереть в клетку, он будет петь без всякого ощутимого биологического результата и рано или поздно найдет удовольствие в самом процессе пения, выводя все более изысканные рулады. Так и у людей, как у птичек. Мало кто не писывал стихов в период достижения половой зрелости. И только тот, за кем не явилась хозяйственная дама сердца, продолжает совершенствоваться в поэтическом мастерстве до глубокой старости. Если бы 3. Фрейду удалось сделать своим пациентом все человечество, как он планировал, всякому искусству пришел бы полный конец. Невозможно вылечить художника от невроза. Художник — это и есть невроз. Или, если выразиться точнее, невроз — его муза, периодически выводящая художника из здорового животного состояния. Но существует ли оно на самом деле, это идеальное психическое здоровье животного? К. Ясперс, который был не только основоположником экзистенциализма, но и выдающимся врачом-психиатром, высказывался на сей счет достаточно осторожно: «В соматическом смысле, то есть с точки зрения анатомии, физиологии, фармакологии, патологической анатомии и терапии, человек для врача не отличается от животного. В психопатологии же проблема «человеческого»... можно сказать, присутствует всегда... Очень сомнительно, чтобы животные были подвержены душевным заболеваниям. Конечно, у животных тоже бывают заболевания центральной и периферической нервной системы... Кроме того, существуют такие явления, как лошадиный норов, «гипноз» у животных (не имеющий ничего общего с гипнозом у людей), панические реакции. У животных также могут развиваться «симптоматические психозы», вызванные органическими поражениями мозга. У них случаются чувствительные, двигательные нарушения (например, бег по кругу), а также изменения нрава — беспричинная агрессивность, апатия и т. п. <...> «Функциональные» психозы в собственном смысле у животных не описаны (наличие истерии у них далеко не доказано). Шизофрения и циркулярное расстройство встречаются у людей всех рас, но у животных их не бывает никогда. <...> Стремясь выявить исконно человеческое начало в психическом заболевании, мы должны рассматривать последнее как феномен, присущий только человеку»[9]. Так что для науки пока ясно только одно — полной ясности тут нет. С одной стороны, психические заболевания поражают только человека. С другой, животное тоже не может претендовать на роль существа, абсолютно здорового психически. «Пример: некоторые особенности поведения собак и кошек в состоянии экспериментального гипопаратиреоза дали основание описавшему это явление Блюму говорить о пограничной зоне между двигательными и психическими симптомами. Он отметил приступы своего рода «безумия», во время которых кошка принимается сломя голову носиться по своей клетке, пытается вскочить на гладкую стену, нападает на другую, вполне миролюбиво настроенную кошку и кусает ее, и, наконец, падает без сил. Тот же автор отмечал у собак и кошек необычные и неудобные позы, внезапные порывистые движения или изменения походки, совершенно не свойственные животным в нормальном состоянии — например, движения, напоминающие гарцевание лошадей на параде. Часто они опускают голову и держат ее низко, как бы бодаясь, они могут раскачиваться, чуть не падая, или пытаться ползти задом наперед, словно не чувствуя, что упираются в стену. Галлюцинирующая собака принюхивается к окружающему и бессмысленно, без всякой видимой причины концентрирует взгляд на случайных предметах. Она царапает когтями оловянный пол клетки, пытается рыть мордой пустой угол. Время от времени она лает, при этом не обращая никакого внимания на окружающее. Кошки, похоже, бывают охвачены какими-то видениями: они «вцепляются» в пустоту, после чего медленно отводят лапы назад» [10]. Так что вряд ли можно считать животное образцом абсолютного психического здоровья. Реальное животное сильно отличается от его метафизического образа, созданного Геленом в назидание человеку. Даже если эта метафизика и является метафизикой скрытой, завуалированной, поскольку изложена она на языке, который может показаться профану языком биологической науки... 4. Спасительное простодушие природного человека В отличие от А. Гелена, все прочие наследники Ж.-Ж. Руссо в своем стремлении вернуться к природе вовсе не призывали человечество впадать в животное состояние с помощью тоталитарного государства. Они воспевали отнюдь не животное, а природного человека. Этот славный малый живет вдали от цивилизации и культуры, ежедневно общается с природой, а потому отличается спасительным простодушием. Простое же вечно и незыблемо. Оно не может гибнуть, распадаться и разлагаться — ему не на что, поскольку простое не имеет частей. Это компьютер то и дело «зависает» по причине своей невероятной сложности. Зато пудовая гиря вечна и перманентно самотождественна. Человек природный и простодушный стараниями Ж.-Ж. Руссо надолго превратился в живую укоризну для человека цивилизованного и культурного. Его идеи породили целую литературу про прекрасных дикарей, знакомую каждому с детства. (Поначалу литература эта имела явственный антифеодальный подтекст, но впоследствии он как-то подзабылся.) Вот вам, к примеру, какой-нибудь Ункас, Оцеола или Чингачгук Большой Змей. Нет над ним ни короля, ни его придворных и нахлебников-бюрократов, не стережет его полиция, не ведает он ни суда, ни тюрьмы, ни прочих «внешних подпорок». Даже школы — и той не кончал. Но посмотрите, как он храбр, как честен, как порядочен, с каким достоинством себя ведет! Нет, что ни говори, а все пороки порождаются извращенным устройством общества человеческого. Бежать, бежать из него на лоно природы! Вот где простота и душевное здоровье! В России нечто подобное, но на свой лад излагал граф Л.Н. Толстой. Его программа великого опрощения как раз и заключалась в том, чтобы справиться с тяжелым психологическим кризисом человека культурного и образованного, окунувшись в среду природных людей — только не индейцев, а отечественных крестьян: «Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, а на деле, нам — самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему люду, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или, благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать — это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей. <...> Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество — признают этот смысл в неразумном знании» [11]. Такое «неразумное знание» Л.Н. Толстого, которое он именует верой, существует до Бога и независимо от Бога. Бог — точнее, все боги всех народов — порождаются верою, а не вера порождается богами: «...Надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру...» [12]. Вера предшествует богам и создает их. Но что же тогда создает веру? Да сама биологически понятая жизнь, которая желает продолжиться и заставляет человека находить внутреннюю опору, внутреннее свое обоснование: «...Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил» [13]. Тигр, который рычит в зарослях, выражает таким образом свою веру, то есть силу жизни. Писк комара тоже есть его грозный боевой клич. Ни тигру, ни комару не нужно оправдывать свою волю к жизни в словах и доказывать себе свою правоту. Животное непосредственно чувствует ее благодаря инстинкту. Только человек, за неимением внутренней инстинктивной опоры, выражает свою волю к жизни, именуемую Толстым «верой», в каких-то словах, обрядах и ритуалах. Все эти слова, обряды и ритуалы не имеют, не должны иметь ничего общего с разумом. Поэтому понятие «смысл жизни», вообще говоря, неуместно. Слово «смысл» этимологически предполагает «мысль», а вот мысли-то тут никакой и не нужно, потому что она все портит. Как только человек начинает думать, он начинает сомневаться, ослабляя ту уверенность в победе, которая необходима ему для жизни. Понятия бога, свободы, добра — это вовсе не понятия, если считать понятиями конструкции разума. Это — выражения биологически необходимого человеку внутреннего чувства своей победительности и правоты. Как только человек подумает — «А смогу ли я победить?»; «А прав ли я?» — тут и пиши пропало. Ни за что он уже не победит. Но бывает ли слово без мысли, которая есть сомнение? Бывает! Как выражались дадаисты, слово есть крик! Оно есть крик победителя. Хотя, конечно, может быть и жалобным криком побежденного в борьбе... Но тот, кто примешивает к слову-крику мысль, ни в какую борьбу даже не вступает. Он уже сдается заранее. «Бог!», «Свобода!», «Добро!» — все это боевые кличи, слова-крики, в которых на протяжении многих веков выражалась воля к жизни у целых народов. Раздумывать о Боге, Свободе и Добре — значит портить жизнь, убивая уверенность в ней у себя и у других. «Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума. Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти» [14]. Человек не должен думать о том, что такое Бог, Свобода и Добро. Всякая такая мысль — проявление губительной гордыни. Это — гордыня, потому что индивид-гордец, каковым видится Л.Н. Толстому интеллектуал, пытается своей мыслью-сомнением подорвать результаты биологически необходимой работы всего человеческого рода. «Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему» [15]. Ой, не должен был бы Л.Н. Толстой употреблять понятие «человечество»! Понятие это выдает только одно: сам он уже испорчен гнилостным образованием, разъедающим, словно кислота, мышлением. Сам граф признается: «...Я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня» [16]. А не надо было изучать! Чего стоит воин в великой битве жизни, который вместо того, чтобы кричать свой боевой клич, изучает боевые кличи противников и думает, сомневаясь: «А правильно ли я кричу?» Боги у разных народов разные. Общего бога у человечества нет. Слово «человечество» придумали интеллектуалы, когда начали сравнивать боевые кличи. Этот кричит одно, другой кричит другое, а, в сущности, все мы люди, все мы — человеки. От таких рассуждений и до измены недалеко. Не пошел бы истинный воин с графом Толстым в разведку. Когда граф решил опрощаться, чтобы больше не думать и не сомневаться, он пошел в народ. Но графом от этого быть вовсе не перестал, поскольку смотрел на народ по-прежнему свысока. Не хотел он учиться у народа простой, нутряной, исконной, посконной и домотканой вере. Вместо этого он стал народ исследовать — и пришел к выводу, что христианство русское, выражаясь словами его, Толстого, последователя Л. Витгенштейна, всего лишь «языковая игра». Делают люди какое-то дело и сопровождают его какими-то словесными выражениями для укрепления собственных амбиций. Так вот: не надо думать, правильно ли эти люди говорят, не надо учить их говорить однообразно и — как тебе кажется — правильно. Как говорят, так пусть и говорят. Языковая игра такая. Придет футболист к шахматистам, посмотрит на их тихие игрища с боевыми кличами «Шах!» и «Мат!», да вдруг скажет: «Неправильно кричите! Надо кричать «Гол!» Вот и получится, что футболист глупый. Не понимает он, что у каждого своя игра и свои крики. Как сторонник великого опрощения, Л.Н. Толстой говорит, что правильность или неправильность русского народного христианства осмыслять не следует. А как граф-автодидакт, правильного образования так и не получивший, но все ж таки образованный, тут же добавляет, что оно, конечно, неправильное. В голове у народа — всяческие суеверия. Ну и пусть. Лишь бы они помогали ему в труде на лоне природы. «И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, — они были необходимым условием этой жизни»[17]. Путает, все время путает граф-автодидакт понятие «вера» в богословском и в своем собственном, в гордыне измысленном значении. Если говорить о вере богословской, то она может быть истинной, не расходящейся с догматами, или неистинной, именуемой суеверием. Если же говорить о вере как витальной, биологически обоснованной опоре в жизни, подкрепляющей силы в жизненной борьбе, то тут слово «суеверие» в первом смысле неуместно. Суеверно здесь то, что мешает одерживать жизненные победы. Я, положим, верил в торжество идей вудуизма, католицизма или какого-нибудь философского «изма», надеясь, что это должно и мне самому принести торжество личное, но, как оказалось, верил всуе, то есть впустую, поскольку успеха так и не достиг. А если б достиг, то какое же это суеверие} Это — самая настоящая и вполне подходящая жизненная вера. Какая же разница, во что ее облекать — в миф о Кришне или в миф о Заратустре? Одним словом, не может быть суеверием то, что позволяет жить вопреки всем трудностям и лишениям. А «суеверия» народные, по мысли Толстого, эту биологическую задачу вполне выполняют. «И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а со спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем, менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа»[18]. Вот живут, к примеру, два человека. Один не работает, только развлекается, но все время жизнью своей недоволен. Болеть не любит, огорчается от этого, полагает, что болезнь — зло, идет лечиться к врачам. Умирать не хочет. Как-то расстраивается от такой возможности. Другой, наоборот, тяжко трудится, но так и не может заработать себе на развлечения. Так, на мороженку или на пиво. Но жизнью своей — доволен! Заболел — значит, так и должно быть. По грехам нашим и хвори наши. Все свои горести считает благом. Умирать пришла пора — радуется, как ребенок. Что из этого следует? Из этого следует, что у второго человека такая удачная жизненная вера, что первый может ему только позавидовать. А наразвлекавшись всласть в своей праздной жизни, он непременно захочет причаститься этой удачной жизненной веры, потому что умирать ему страшно. Давай, скажет, я в вашу языковую игру перейду. Примете меня? Могу помочь, если что, материально там или административным ресурсом, а нет их, так просто печатным словом... Но пусть это будет только языковая игра, не более того. Совсем уж принимать ваш жизненный контекст, в курную избу переезжать мне как-то не хочется. Разве что попахать или покосить пару раз... Л.Н.Толстой, разумеется, на закате жизни решал главным образом свои собственные проблемы. Определять свою политическую позицию он не считал нужным, поскольку ко всей политике в целом питал глубокое презрение. Однако С. Цвейг с полным основанием считает его анархистом: «... В наши дни другие великие движения в области веры — изначально-христианский анархизм Толстого или непротивление Ганди — имеют на миллион людей связующее или возбуждающее влияние...»[19] Но, как ни странно, режимы тоталитарные ухитрились превратить такую, казалось бы, анархистскую идею безмысленного опрощения в часть государственной идеологии! В обществах, именовавших себя социалистическими, излишние душевные смятения в массовом порядке лечились трудотерапией на лоне природы. Чем слабее были достижения научно-технического прогресса в этих обществах, тем больше они восхваляли преимущества бесхитростного труда в деревне, уверяя, что виноград городской науки, культуры и индустриализации зелен и пагубен. Мао Цзэдун заявлял, что даже мало-мальская наличность в кармане человека делает его в городе развращенным буржуем: его кормят, поят, укладывают спать и всячески обслуживают, то есть ведут себя подобно слугам, превращая его в классово чуждого господина. По этой причине великий кормчий и отправил на трудовое перевоспитание в деревню все студенчество, предварительно заставив его деятельно усомниться в своих противниках из партгосаппарата. Пол Пот пошел в Кампучии еще дальше. Он взорвал буржуазные банки, уничтожил деньги и ликвидировал города как таковые, отправив все их население в деревню. В российских пределах однозначной политики опрощения на пленэре как-то не сложилось. С одной стороны, считалось полезным, чтобы студенты и интеллектуалы потрудились в полях. С другой стороны, совсем выселять их на лоно целительной природы не хотелось: научно-технический прогресс был нужен хотя бы для того, чтобы «страна реального социализма» имела самое современное вооружение. Поэтому делались попытки совмещать несовместимое: вот было бы хорошо, если бы наука и индустрия в стране были городскими, а образ жизни, обычаи и нравы — патриархальными, деревенскими. Пропаганда достижений науки и техники поэтому вполне уживалась с так называемой деревенской прозой, которая выпускалась миллионными тиражами. «Деревенщики», они же — «почвенники», призывали обратиться спиной к цивилизации, игнорировать индустриальное общество, которое не принесло ничего, кроме морального разложения и полного смятения душ. Одной из ярких акций этих писателей стал выпуск сборника «Мы строим дом»[20], который вышел в 1981 году и был призван вернуть заблудшую городскую молодежь на стезю прадедовской добродетели. Эта молодежь, которая сама не понимала глубины постигшего ее несчастья, должна была обрести психическое здоровье в семье, основанной на принципах «Домостроя». Авторы сборника, в отличие от Л.Н. Толстого, уже не умствовали и не сравнивали веры разных народов. Вполне достаточно веры российской, а точнее — тех обычаев и ритуалов, которые на протяжении многих веков помогали выживать крестьянству. Им-то, во всей их простоте и естественности, и надлежало следовать, особо не размышляя. Идеалом авторы сборника объявили семью из трех поколений: «Это то, что всегда обычно на Руси в одной избе жили три поколения: старики, дети и внуки, часто очень взрослые. Старики по мере сил помогали в хозяйстве, но нуждались в опеке и полностью зависели от детей. Дети, зная, что и их старость не за горами, заботились о родителях. Внуки воспитывались на этой заботе» [21]. Далее, однако, читатель обнаруживает некоторое лукавство ласковых старцев-наставников. Как оказывается, вовсе не старики в семье «полностью зависят от детей». Наоборот, дети их и внуки, «часто очень взрослые», всецело зависят от стариков — по неразумию своему. Даже создание собственной семьи молодым доверять отнюдь не следует! «В современной жизни меньшее число связей, которые связывают молодую семью с миром, а отсюда уменьшение контроля за молодой семьей, предоставление ее самой себе. Ну разве можно предоставить воле событий, случаю то, что должно решаться навсегда? А сами молодые, что они думают?» [22] Ничего не думают молодые. Всем, что они думают, можно пренебречь: это — случай. Поэтому семью им должны создавать старшие: «Невесту сыну обычно выбирали (а если не выбирали, то непременно знакомились с будущей родней, для этого были и смотрины, и сговор, и пропивки, и т. п.) родители. Они опытнее, они хорошо знали своего сына, его характер, видели, какая девушка ему под пару. В деле сватанья никогда не было насилия, не понравились, не слюбились, подождем другой партии. Но чаще выбор отца (или матери) был правилен. Ведь отец уже прошел жизненные стадии, предстоящие сыну» [23]. Составитель сборника В. Крупин, статьи которого мы цитируем, не только порицал новомодные противозачаточные средства, каковых на Руси традиционно не ведали, но и рассказывал молодежи назидательные истории об уходе вдов в монастырь — тоже, мол, была такая хорошая традиция: «Уход в монастырь был обычен для женщин, потерявших мужа. Княгиня Евдокия, супруга Дмитрия Донского, родила мужу одиннадцать детей (и уж тут кстати или некстати, а надо сказать нынешней молодежи, что ни о каких предохранениях против беременности раньше не было и речи, и знать о них не знали); причем кажется, что Евдокии много лет, нет, очень мало, она овдовела в тридцать восемь и, овдовев, постриглась в монахини под именем Евпраксии. Она была очень красива, бывшая великая княгиня, и злые языки придворных наушников стали внушать великому князю московскому Василию, что его мать не хранит монашеский сан. Василий вынужден был обратиться к матери. Тогда она, призвав к себе всех детей (семерых сыновей и четырех дочерей), разделась перед ними, и они увидели страшное, иссохшее, изможденное постом и молитвой тело родившей их матери. Тогда они устыдились и упали ей в ноги»[24]. Достойным подражания в глубокой мудрости своей объявлялся и другой обряд, недоступный пониманию современных феминисток: «Но очень долго на Руси сохранялся обряд разувания жениха невестой. В нем не было ничего унизительного. Афанасьев так объясняет его: «...нога приближает человека к предмету его желаний; обувь, которой он при этом ступает, и след, им оставляемый на дороге, играют значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные движения человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: «следовать советам старших», то есть как бы идти по их следам. Отсюда, символическим образом разувания женою мужа обозначалось вступление жены под власть мужа, ее обязанность ходить по его стопам...» [25] Досадное отсутствие герменевтических способностей у современных жен, насквозь пропитанных тлетворным рационализмом образования, не позволяет им осуществить постигающее вникание в слово «поступок» с последующим разуванием главы семейства. Хотя, конечно, нельзя не признать, что нынче и не глава он частенько... «Мужчины сейчас в трудном положении — многие из них утратили звание главы семейства, и только сильные могут противиться этому. Но тем более вырастает роль женщин» [26]. Нынешняя молодежь, руководствуясь своей приземленной формальной логикой, не может, конечно, постигнуть, в чем именно состоит возрастание женской роли. То ли свободная женщина, как глава семейства, должна снимать обувь с самой себя, символически показывая этим, что она следует самой себе... То ли ей будет лучше лукаво разувать мужа, чтобы он, наконец, почувствовал себя главой семьи и стал зарабатывать больше, ирод... Ясно, похоже, только одно: когда каждый разувается сам по себе, развод неизбежен. Как ни внедрял В. Крупин традиционные российские представления о семье в головы современников, они, по его собственным признаниям, так и не откликнулись, ибо успели проникнуться новомодной заразой индивидуализма: «Самое страшное: поразило то, что все без всех обойдутся, каждый силен сам по себе и независим от другого. Начиная с родителей. Во-первых, они еще и сами молодые, во-вторых, если и будут старые, доживать будут одни, у них будет пенсия, им хватит, а не хватит, подработают...» [27] Если родители говорили такие страшные вещи, то школьники и подавно внушали ужас. Решил В. Крупин провести в школе урок, посвященный обрядам сватания, помолвки, смотрин, обручения, венчания. Велел принести свадебные фотографии бабушек и дедушек. Лучшая ученица Марина подготовила доклад. И что же? «Но урок-то не получился! И горько-горько ревела после него Марина, как раз она хотела говорить об обряде прощания невесты с родительским домом. Она выписала из книг о народных обрядах причитывание невесты. Вышла к столу, волнуясь, развернула тетрадку. — Перед тем как свадебный поезд повезет невесту на венчание в церковь, а оттуда она поедет в дом жениха, невеста прощается с родительским домом. Она обвывает дом, каждую его часть в отдельности: горницу, где была ее зыбка — колыбель, крыльцо, на которое столько раз ступали ее ноги, родной порог, двор... — Чего, чего она делает? — перебили Марину. — Обвывает. Вот пример: «Ты за что, родимый батюшка, отдаешь меня в чужедальнюю сторонушку...», или: «Половицы вы мои, тесаные! Отходили по вам мои ноженьки...» — но дальше Марину никто не слушал. — У нее что, умер кто, что ли? — сквозь смех кричали с места. — Нет. — Она замуж идет? — Так чего она воет? Радовалась бы! — Марин, еще повой! — кричали другие. Так и довели бедную девчонку до слез. Мои же попытки объяснить обряд прощания были тщетны. Как я ни надрывался, говоря, что замужество и женитьба полностью меняют весь образ жизни, что брак не есть только радость, но и громадная ответственность друг за друга, что между положением дочери и жены — громадная пропасть, тщетно! Жаль, что этот урок был не последним в этот день, ребята торопились на физику, оставив нас с плачущей Мариной» [28]. Отметим, что именно на физику торопились ребята: В. Крупин — писатель незаурядный, ничего случайного у него не бывает... Но об уходе от прадедовской мудрости к мудрости физиков — позднее. Идиллия семейного воспитания в простой деревенской семье была с любовью описана другим корифеем «деревенской прозы» — В. Беловым: «Бабушка щекотала у ребенка под мышкой, и внук или внучка заходились в счастливом, восторженном смехе. Другая игра-припевка тоже обладала своеобразным сюжетом, причем не лишенным взрослого лукавства: Где были? — У бабушки. Ладушки, ладушки. Что пили-ели? — Кашку варили. Кашка сладенька, Бабушка добренька, Дедушка не добр. Поварешкой в лоб. Конец прибаутки, с легким шуточным щелчком в лоб, вызывал почему-то (особенно после частого повторения) детское волнение, смех и восторг» [29]. Легкий щелчок в лоб, особенно после частого повторения, действительно обеспечивал эффективность семейного воспитания — в глубоко народных, простых и естественных традициях. Отсутствие этого щелчка, сопровождаемого вполне резонным для традиционного общества напоминанием о строгости дедушки, порождает чудовищный умственный разврат в современной российской школе. Ладно бы, если к такому выводу пришел только ностальгический лирик В. Белов. Но нет! К этому выводу пришел академик Российской Академии Образования, Председатель Президиума Центрального совета Российского педагогического общества И.В. Бестужев-Лада! 5. Футурология прошлого Корифей отечественной футурологии тоже решил, что нынешнее школьное воспитание надлежит заменить семейным, выдержанным в народных традициях. Сегодняшняя школа, по мнению этого выдающегося теоретика отечественной педагогики, представляет собой «чисто мафиозный социальный механизм». Отдавать туда ребенка крайне вредно! «Поставьте себя в положение ребенка... Он привык быть любимой игрушкой в руках родителей и бабушек-дедушек. И вдруг, не будучи преступником, попадает в атмосферу с прямо противоположными правами. В учебно-воспитательном учреждении никого не заботит, сангвиник ты по темпераменту или холерик, застенчивый или бесцеремонный, умница-тугодум или быстро соображающий дурак — здесь в каждой детсадовской группе, в каждом школьном классе, в каждом студенческом общежитии быстро устанавливается иерархия грубой силы с вожаком... Этот чисто мафиозный социальный механизм невозможно «упразднить» никакими указами, никакими «воспитательными мерами», никакой «работой с детьми». Поставьте себя в положение ребенка, обязанного пройти все круги этого ада... и задумайтесь над вопросом: оправдывает ли себя любое, самое блестящее образование, полученное такой ценой? Да ведь к тому же и образование-то получается далеко не блестящее. Далеко не то, что нужно получающему его и что необходимо от получающего обществу» [30]. Вся современная система образования — начиная с детского сада и кончая университетом — это ад. А рай, по мнению академика РАО, представляет собой воспитание семейное. Родители сами научат ребенка всему необходимому. Как то и положено вековечной традицией: «Как строилось образование на протяжении десятков тысяч лет истории рода homo sapiens? Девочка с младенчества и до замужества постоянно находилась возле своего главного педагога — матери. Мать обучала ее самой сложной на свете профессии — матери, хозяйки дома — во всех тонкостях: от приготовления пищи и шитья одежды до искусства отношения с другими членами семьи. Мать собственным примером показывала, как надлежит себя вести в различных житейских ситуациях, а так как она в нормальной семье являлась для дочери наивысшим авторитетом — ее образ мыслей, мировоззрение, система ценностей передавались как бы по наследству... Матери помогали ассистенты педагога — бабушки, тетки, старшие сестры, соседи. Они не просто рассказывали и показывали — они жили своей жизнью, и девочка училась быть точно такой же. Ничего эффективнее такого преподавания нет и быть не может... Благодаря усилиям такого «педагогического коллектива» к 15 годам из ребенка формировался во всех отношениях совершенно взрослый человек, готовый в любую минуту впрячься в свое собственное семейное ярмо... Ничего подобного нельзя достичь ни в одном учебном заведении, сколько средств в него не вкладывай» [31]. Если девочку надо послать из школы подальше, к матери как главному педагогу, то мальчика, естественно, надлежит отправить в учение к отцу. Тот тоже разовьет в нем готовность «впрячься в собственное семейное ярмо»: «Мальчик недолго оставался возле материнской юбки. С 5-7 лет он поступал в класс своего главного педагога — отца, который передавал сыну как бы по наследству свою профессию (включая важнейшие, а нередко и особые мужские ремесла), свое мировоззрение, свои стереотипы сознания и поведения. Собственной жизнью он показывал ему главный пример того, что глава семьи и опора семьи — синонимы, что без этого отец — не отец, а нечто вроде плохого старшего брата собственному ребенку, муж — не муж, а в лучшем случае наложник, только узаконенный, мужчина — не мужчина, а подросток до самого своего мужского климакса. А без мужчины — опоры для женщины и детей, — что толку рассуждать о человечности?... Отцу помогали дедушки, братья, дядья, старшие братья, соседи. Они учили мальчика своей жизнью, и мальчик к 15 годам становился парнем, во всех отношениях готовым стать главой собственного семейства... Этот естественный циклический процесс воспроизводства не просто новых поколений, а полноценных членов общества, ...не имеет и иметь не может никаких альтернатив. Образование вышеописанным естественным образом не только готовит в положенное человеческой природе время (к моменту наступления физиологической зрелости) полноценных граждан и работников... автоматически обеспечивает стабильность семьи, преемственность поколений, простое человеческое счастье максимально возможного числа людей. Главное, оно автоматически обеспечивает стабильность, выживаемость, процветание общества» [32]. Удивительная страна — Россия! Академик Академии Образования может здесь заявлять, что для 90-99% населения страны в школу будет лучше не ходить. Народного семейного образования им вполне достаточно. Все российские бедствия начались в XX веке, когда детей отправили в школу, а затем и в вуз. Доказательством тому — XIX век, не говоря уже о веках предшествующих, еще более здоровых: «До сравнительно недавних времен — скажем, приблизительно до XX столетия — для подавляющего большинства людей (до 90—99%) даже в развитых странах того времени только что кратко описанной «домашней школы» было вполне достаточно, чтобы вступить в жизнь полноценным человеком, полноценным работником. Семья не только делала человека образованным этически, воспитанным эстетически, подготовленным к физическому и умственному труду, знакомым с необходимыми в жизни азами естествознания и обществознания, физической и духовной культуры (в широком смысле этого понятия), но и учила считать, а в некоторых случаях, по возможности и необходимости, — даже читать и писать»[33]. Действительно, будет возможность и необходимость — так обучат тебя в семье не только высокой духовной культуре, но, вдобавок, даже читать и писать. Не будет такой необходимости или возможности — сойдет без чтения и письма. Гуляй так, духовно культурным (в широком смысле этого понятия), хотя и неграмотным. Такая вот академическая образовательная доктрина... Были, конечно, у И.В. Бестужева-Лады исторические предшественники. Но, пожалуй, все же не столь крутые и непреклонные в своих педагогических суждениях. Как натерпелся от всякого рода критиканов министр народного просвещения И.Д. Делянов, когда выпустил в 1887 году «циркуляр о кухаркиных детях» — несмотря на то, что циркуляр этот был высочайше одобрен Александром III! А ведь министр хотел добра: не стоит портить образованием здоровые души простонародья, не ведающие от природы сомнений и смятений. Он предписал учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии «только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем наздоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства». Смысл циркуляра разъяснялся так: «При неуклонном соблюдении этого правила гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей они принадлежат» [34] . И.Д. Делянов, конечно, в сравнении с И.В. Бестужевым-Ладой, выглядит просто выдающимся просветителем. Он всего-то хотел оградить детей всякой черни от тлетворного влияния гимназического образования, открывавшего дорогу в университет. Пусть бы они, кухаркины дети, учились где попроще. Но чтобы отлучить от школы 99% населения страны... Конечно, сегодня все школы и вузы закрыть, к сожалению, не удастся. Уж в такие чудовищные времена мы живем, совершенно отдалившись от природы. Принято считать, что без образования человек не может считаться полноценным. Но пора, пора одуматься! Пора вернуться назад, в деревню! «В условиях современного общественного производства, в отличие от минувших времен, как раз для подавляющего большинства людей «домашней школы» недостаточно, чтобы вступить в жизнь полноценным человеком. Мало того, в отличие от традиционного сельского, современный городской образ жизни оставляет родителям, вообще семье, мало времени и реальных возможностей для воспитания и обучения подрастающего поколения... Сама жизнь подталкивает: отдай ребенка в ясли, в детский сад, в школу, в университет — и ему будет хорошо, и тебе — легче!.. И ребенка «отдают». И это — в условиях полного крушения семьи в ее прежнем, естественном виде, когда из-под учебных заведений выбиты прежние подпиравшие их семейные устои» [35]. Хотя, конечно, не в одной индустриализации тут дело. Главная проблема все же состоит в том, что две трети детей обучаться в современной школе неспособны. Слишком много в российском народе дебилов, а также приближенных к ним дураков и полудурков. А всех их ошибочно заставляют учиться! В этом-то и кроется основная причина наркомании, насилия и преступности: «...На каждые 100 детей (и, соответственно, взрослых) существует определенный процент умственно отсталых, психически неполноценных — не буду приводить цифры, чтобы не огорчать читателя; скажу только, что процент довольно велик и имеет тенденцию к возрастанию. Что, вдобавок, вдвое большая доля приходится на так называемых маргиналов, причем на одном полюсе этой публики их трудно отличить от дебилов, а на другом — от нормальных людей. Маргиналов не только можно, но и нужно учить, чтобы сделать полезными членами общества. Вдвое большую процентную долю в сравнении с маргиналами составляют совершенно нормальные дети, у которых недостаточно развит даже низкий уровень абстрактного мышления (те, которые не могут прибавить к 1/3 1/2 или усвоить понятие «долг» не в смысле занятого рубля — хотя прекрасно считают конкретные предметы и могут быть очень самоотверженными в соответствующих обязательствах). И еще вдвое больше детей с недостаточно развитым высшим уровнем абстрактного мышления (им никогда в жизни не постичь котангенсов, не понять, что такое «классовое расслоение общества» или «образ Евгения Онегина»). В совокупности набирается подавляющее большинство — до 2/3 и более учащихся, от которых требуют, а они не могут... Наступает состояние, называемое в психологии фрустрацией. Человек — ребенок! — замыкается в себе, ожесточается, озлобляется на весь белый свет. И таких в общей сложности — десятки и сотни миллионов: это сломанные человеческие судьбы... За зло они платят злом, свои огорчения вымещают на близких и слабых, «самоутверждаются» антиобщественным поведением, ищут забвения в наркотиках.. .» [36] Выход напрашивается один: две трети школьников (уже почему-то не 99 процентов?) надобно распустить по домам. Хватит нам разделять всякие западные предрассудки о пользе образования. Отдавать ребенка из семьи в школу — бесчеловечно! На это уже указывала родительница Митрофана Простакова, простая русская женщина и гуманистка, которая непременно удостоилась бы нынче академического титула и звания доктора педагогических наук. Но не послушали ее. Все насаждали бесчеловечные обычаи! «И держится эта бесчеловечность только на чисто инерционных, ныне полностью анахроничных представлениях, сложившихся при массовом переходе от традиционного сельского к современному городскому образу жизни. Домохозяйка — плохо. Секретарша и тем более артистка — хорошо. Работяга — плохо. Начальник — хорошо. Диплом без образованности — хорошо. В бывшем СССР такая установка дала поистине чудовищные результаты. К 1985 г. из 130 млн. работающих 35 млн. — каждый четвертый! — имели дипломы об окончании специального среднего или высшего учебного заведения. В стране было втрое больше инженеров ( по диплому), чем в США, а собственно инженерным трудом занималось менее миллиона — как говорится, дай бог, если один из десяти. Остальные числились инженерами лишь по названию. Было вдвое больше врачей (на тысячу человек населения), но каждый «пролечивал» за год вдвое меньше больных, а каждый третий к тому же не мог пройти элементарной аттестации, то есть «врачом» был тоже только по названию» [37]. К счастью, перспективы наши светлы. И.В. Бестужев-Лада, снискавший еще в СССР лавры футуролога, предсказывает: «Но вот мир переворачивается еще раз. К состоянию, когда не имеет значения, какой у человека диплом и есть ли диплом вообще, когда все большее значение имеет, какой работник: когда не важно, где и кем человек работает, важно, что он делает и как делает... Процесс этот только начинается, но основные характеристики его определились довольно четко, а вместе с ними — и реальные перспективы положения дел в данном отношении в обозримом будущем ближайших десятилетий» [38]. Что же произойдет в эти ближайшие десятилетия? Компьютеры и автоматы, как предсказывает футуролог, совершенно вытеснят человека с производства. Все смогут, наконец, разойтись по семьям и заняться воспитанием детей. (Не говорится, правда, на какие средства будут жить эти воспитатели; очевидно, производство все же будет обобществлено, а доходы от него поделены между всеми, то есть коммунизм все-таки наступит.) Итак, машины сами произведут все необходимое и обеспечат им человека. Но как же воспитывать детей в народных традициях, не показывая им трудовых примеров? Здесь можно рекомендовать народным педагогам особый, ритуальный труд в дедовских традициях. Например, плетение лаптей или ручное ткачество. Как милы и народны были лоскутные половички! А деревянные ложки? Вот таким прадедовским трудом и надо будет заниматься в чисто воспитательных целях, принципиально избегая моторов, электричества и даже пара как порочных и развращающих достижений цивилизации. Не для продажи плести лапти, а в знак верности традиции! И великим грехом был бы сам подсчет экономической эффективности этого чисто воспитательного труда! Не хлебом единым! Есть, есть вдохновляющие примеры такого труда даже сегодня! Это — сады трудящихся, где они занимаются мотыжным — точнее, лопатным — земледелием, не применяя даже конной сохи. Здесь приобщение к природе достигнуто даже в большей мере, чем в Киевской Руси. Себестоимость морковки, произведенной таким образом, во много раз превосходит рыночную цену бананов, привезенных с другого конца света. Но не святотатство ли — вести такие подсчеты? Один из друзей автора этих строк, человек смелый и предприимчивый, еще в годы правления Ю.В. Андропова доказывал в кандидатской диссертации превосходство рыночной экономики над плановой. Затем он перешел от теории к практике и создал лучшую в Екатеринбурге сеть обувных магазинов с оборотом в миллионы долларов. Но даже ему приходилось самолично копать приусадебный участок около своего коттеджа, чтобы посадить картошку. Размеры упущенной выгоды за несколько дней приобщения к природе явно были таковы, что на эти деньги можно было бы купить не один товарный вагон столь любимых в народе клубней. Но — нельзя! Приезжал строгий отец и недоумевал: «Как же так? Картошка у тебя не посажена... Непорядок...» И нанять кого-нибудь на огородные труды нельзя. Это все равно, что послать кого-то вместо себя в церковь помолиться... 1. Досократики. Мн.: Харвест,1999. С. 292 2. Там же. С. 291. 3. Перевод слова «полис» как «город-государство» невольно вводит нашего современника в заблуждение. По сегодняшним представлениям и классификациям полисы не тянули даже на поселки городского типа. В некоторых из них проживало всего 40 человек. В идеальном государстве Платона должно было жить пять тысяч сорок человек. ( Платон. Законы. М.: Мысль, 1999. С.189.) 4. Прутков Козьма. Мой портрет / / Сочинения. М.: Правда, 1986. С.29. 5. Гиппократ. О священной болезни // Гиппократ. Этика и общая медицина. Санкт-Петербург, Азбука, 2001. С. 286 6. Gehlen A. Vom Wesen der Erfahrung (1936) // Gehlen A. Anthropologische Forschung. Hamburg, Rowohlt, 1961. S. 33 7. Пример А. Гелена.— Прим. авт. 8.Gehlen A. Zur Geschichte der Anthropologie // Gehlen A. Anlhropologische Forschung. S.23 —24. 9. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. С.31 —32. 10. Ясперс К. Общая психопатология. С. 31—32. 11. Толстой Л.Н. Исповедь // Толстой Л.Н. Избранное. Ростов н /Д: Феникс, 1998. С.39-40. 12. Толстой Л.Н. Исповедь. С. 43. 13. Там же. С. 43. 14. Толстой Л.Н. Исповедь. С. 44-45. 15. Там же. С. 65. 16. Там же. С. 46. 17. Толстой Л.Н. Исповедь. С. 47 —48. 18. Толстой Л.И. Исповедь. С. 48. 19. Цвейг С. Врачевание и психика. Ф. Месмер, М. Беккер-Эдди, 3. Фрейд СПб.: ТсОО «Гамма», 1992. С. 77. 20. Мы строим дом: Книга о молодой семье. М.: Молодая гвардия, 1981. 21. Крупин В. В кругу семьи// Мы строим дом. С. 302-303. 22. Там же. С. 305. 23. Там же. С. 303. 24. Крупин В. Свет любви// Мы строим дом. С. 18. 25. Там же. С. 26. 26. Крупин В. Свет любви. С. 23. 27. Там же. С. 305. 28. Крупин В. Свет любви. С. 12-13. 29. Белов В. Жизненный круг// Мы строим дом. С. 68. 30. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем// Педагогика. 1993. № 6. С. 104- 105. 31. Там же. С.103. 32. Там же. С. 103-104. 33. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем. С. 104. 34. Рождественский С.В. Исторический очерк деятельности министерства народного просвещения. СПб.,1909. С. 641. 35. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем. С. 104. 36. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем. С. 105-106 37. Там же. С. 106. 38. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем. С. 106 Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||