 |
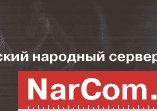 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
В работе представлен взгляд на концепцию глобализации девиантности с позиции телеологии. В. Бачинин
Концепт интертекста Теоретическое сознание ученых-девиантологов, будь то криминологи, социологи, психологи, политологи или социальные философы, вынужденно имеет дело не только с эмпирическими социальными фактами, но и с сопутствующими им знаками и значениями, из которых складываются разномасштабные тексты и интертексты. Если говорить о геосоциальном мире, то он, будучи текстуализирован современным теоретическим сознанием, превращается в универсум смыслов, ценностей и норм, облаченных в знаковые формы, и в итоге предстает как чрезвычайно обширный интертекст. Именно в нем теоретики и пытаются отыскивать необходимую им информацию, вычитывать интересующие их сведения. В зависимости от научных, идеологических, политических и иных установок, которыми руководствуется каждый из них, в любом конкретном случае конфигурации вычитанных смыслов обретают каждый раз свой, особенный характер. Конкретное исследование представляет собой реакцию теоретического сознания не только на предшествующие тексты, но и на весь интертекст существующей социокультурной реальности. Более того, возникший из-под пера ученого новый текст, сам становится элементом интертекста, что отвечает той логике взаимодействий, в которую он оказался вовлечен. Сама идея интертекста предстает как порождение логики процесса глобализации. Развившаяся у современных людей, а теперь уже и постоянно стимулируемая возможность мыслить планетарными категориями, повсеместно усматривая связи всего со всем — это основание для того, чтобы рассматривать любой локальный, частный текст в качестве фрагмента мировой цивилизации, пронизанного множеством детерминационных векторов и выступающего, в свою очередь, в качестве источника огромного числа детерминационных импульсов. В свете всей этой проблематики невозможно не обратить внимания на один удивительный парадокс, связанный с библейским интертекстом. Ветхий Завет, а затем и Новый Завет вместе с развившимся на их основе христианским интертекстом оказались как будто специально предназначенными для современной эпохи тотальной интеграции. Все содержащиеся в них семантические, аксиологические и нормативные векторы были изначально ориентированы на то, чтобы формировать планетарное интертекстуальное пространство. Не потому ли систематические рецепции библейских текстов в литературных, философских и научных трудах, исследующих природу человека и социума, стали общепринятой практикой, которой культура и наука не изменяли на протяжении двух тысячелетий и которой они придерживаются даже сейчас, в предельно секуляризованных социальных условиях. Одна из причин этого обстоятельства заключается в том, что, все самое главное о девиантной (греховной) природе человека и социума было давно уже сказано, сосредоточившись в Священном Писании и в примыкающем к нему всеобъемлющем библейском интертексте как едином целом. Подчеркиваем: сказано было далеко не всё, но лишь самое важное. Вся последующая социогуманитарная культура христианской цивилизации строилась при важной роли принципа калейдоскопа: история периодически встряхивала человеческое сознание, и в его глазах составлялись новые комбинации из уже существующих элементов антропологических, психологических, социологических и культурологических знаний. В современных условиях способность к интертекстуальному восприятию и прочтению социальных фактов и артефактов становится показателем культурной и теоретической зрелости социогуманитарного сознания, свидетельством его готовности адекватно откликаться на интеграционную социодинамику геосоциальных тенденций. Для ориентированного таким образом сознания ни один конкретный девиантологический текст, будь он криминологическим, психологическим, социологическим, политологическим или философским, не может считаться автохтонным, самодостаточным. Библейские, богословские, естественнонаучные, культурологические и прочие влияния и заимствования в нем всегда в той или иной степени присутствуют и неизбежно «отзываются эхом» (У. Эко). При этом, как отмечал тот же Умберто Эко, отсутствующие типографские кавычки могут быть обнаружены благодаря внетекстовому знанию ученых, знакомящихся с текстами. Планетарность христианского интертекста Христианство — планетарная религия, сумевшая придать характерную ценностно-нормативную направленность целому ряду локальных цивилизаций и культур. Вышедшее из античного мира, христианство явилось одновременно его порождением и его отрицанием. Оно стало важнейшим духовным средством преодоления кризисного состояния эллинистической цивилизации и одновременно звеном, связующим два исторических мира, две цивилизации, античную и средневековую. Рассудочно-прагматическая идеология официального Рима, господствующая в гигантской империи, не могла выразить в адекватных понятиях всю трагическую сложность тех метаморфоз, которые происходили внутри социальной реальности. В этой противоречивой, переходной духовной атмосфере перерождающегося социального мира и начало распространяться новое вероучение, у истоков которого стоял Иисус Христос. Его деятельность, духовный труд его учеников и последователей привели к тому, что уже в первом столетии новой эры христианство перестало быть исключительно еврейским вероисповеданием. Недоверие, поначалу испытываемое по отношению к христианству большинством жителей Римской империи, а также преследования официальных властей стали постепенно сменяться признанием. Обнаружилось, что идея единого Бога созвучна официальной идеологии цезаризма и в гораздо большей степени способствует централизованному управлению Римской империей, чем традиционное многобожие. Новое вероучение все шире распространялось среди многонационального населения империи, обнаружив способность функционировать в геосоциальных масштабах. Впоследствии христианство неоднократно сообщало мощные импульсы духовной жизни многих народов. Распространившись поначалу в восточных, малоазийских провинциях Римской империи, оно постепенно проникало и на запад. По свидетельству историков, в III в. в Риме, населенном полутора миллионами жителей, было от 30 до 50 тыс. христиан. В таких крупных городах, как Александрия и Карфаген, их число достигало 5-10 тыс. в каждом. На протяжении последующих веков благодаря активности миссионеров христианство распространилось на север Европы, пришло в жизнь германских племен. Нордическая мифология воинственных германцев с присущим ей внутренним динамизмом и трансгрессивными порывами к безграничному обнаружила способность сопрягаться с христианскими идеями и образами. Как отмечал Р. Гвардини, нордический фермент, успевший в средние века пропитать все европейское социальное пространство, соединился с христианской устремленностью к беспредельности. Так возникли особые типы западной, Романо-германской духовности, ментальности и социальности. Исходные идеи и образы христианского вероучения проходили через разные социокультурные фильтры. Шел нескончаемый процесс раскрытия неисчерпаемой многозначности его базовых, основополагающих смыслов. Изначально полифоничные, открытые и предрасположенные к различным интерпретациям, они инициировали духовно-интеллектуальные искания многих поколений и по сей День продолжают стимулировать и наполнять жизнь христианских Цивилизаций и культур. Две парадигмы девиантологического анализа На сегодняшний день внутри социальной девиантологии существуют два относительно самостоятельных проблемно-аналитических корпуса— антропосоциальное богословие и секулярная антропосоциология. Связанные между собой общим предметом, каковым является жизненный мир антропосоциальной реальности, ее единый интертекст, они различаются в своих исходных мировоззренческих посылках. В основании этих посылок лежат две несходные модели антропосоциальной реальности — сакральная и секулярная. С позиций позитивизма, социология и социальное богословие — это две совершенно разные дисциплины, никоим образом не связанные между собой и совершенно не нуждающиеся друг в друге. Для позитивистски ориентированного теоретического сознания геосоциальная реальность представляет собой сугубо посюсторонний предмет социологической науки, лишенный каких бы то ни было сверхфизических компонентов. Что же касается теологического видения геосоциальной реальности, то оно опирается на идею мировоззренческого приоритета веры над разумом. В его свете все миросозерцательные и мирообъяснительные формы подчиняются принципу теоцентризма. Этот подход предполагает, что факты макросоциальной жизни могут рассматриваться сквозь призму социального богословия и что из него как «независимой переменной» может дедуцироваться геосоциальная девиантология как «зависимая переменная». Если учитывать сказанное, то все разнообразие существующих моделей девиантологического анализа может быть типологизировано в соответствии с бинарно-оппозиционным парадигматическим подходом. Последний позволяет выделить два типа моделей. С одной стороны, это позитивистская парадигма, являющаяся ровесницей социологии как науки и имеющая возраст в полтора столетия. С другой стороны, это христианская парадигма, имеющая библейские теологические основания и использовавшаяся абсолютным большинством западных мыслителей антропосоциальной ориентации эпохи классики. Перед современным социологом-девиантологом открыты две возможности. Первая позволяет осваивать любую девиантологическую тему или проблему в категориях позитивистской социологии. Вторая дает возможность описывать, исследовать ту же самую проблему в терминах христианской социальной аналитики. Для социолога привычным, в достаточной мере проработанным является первый путь. Если же он попытается работать в русле христианской парадигмы, то это может породить вопросы, касающиеся необходимости и целесообразности подобного шага. Ответ на вопросы такого рода предполагает учет того, что в антропосоциологическом проблемном пространстве существуют реалии, которые невозможно объяснить, если оставаться только в пределах позитивистской парадигмы. Теоретическое сознание способно приближаться к ее границам, но при этом вопросы будут продолжать оставаться открытыми. И в подобных ситуациях существуют две возможности дальнейших действий — либо отказаться от последующих вопрошаний, либо же устремиться за эти обозначившиеся границы. Социологическое сознание, избравшее второй путь, обнаружит, что за проявившимися когнитивными пределами расстилаются области социальной философии, метафизики и теологии, которые, казалось бы, не должны прельщать социолога, поскольку он обязан сохранять свою профессионально-цеховую идентичность и не вправе превращаться ни в социального философа, ни в метафизика, ни в теолога. Социолог должен оставаться социологом. Вместе с тем никто не вправе запретить ему пользоваться аналитическими резервами сопредельных познавательных сфер. Подобное использование может оставаться социологически легитимным, если при этом не меняется магистральная целевая направленность познавательных интенций социологического сознания. Итак, вообразим, что социологическое сознание, нацеленное на исследование проблем геосоциальной девиантологии, берет на себя смелость вторгнуться в концептуальные пределы христианской социальной аналитики. Первое, что оно при этом обнаружит, — это то, что категории христианской социальной аналитики обладают рядом примечательных свойств, важных для понимания сути геосоциальных девиантологических ориентации субъектов современной общественной жизни. Первое. Категории христианской социальной аналитики экуменичны, т. е. они изначально предрасполагают к разговору о глобальных проблемах и порождаемых ими антропосоциальных последствиях, касающихся как всего человечества в целом, так и любого из социальных субъектов, входящих в его состав. Христианство, как планетарная религия, придавшая общую характерную ценностно-нормативную направленность целому ряду локальных цивилизаций и культур западного и славянского миров представляет собой глобальную систему социального контроля Этот контроль осуществляется на всех уровнях, начиная с личностно-индивидуального и вплоть до макросоциального в масштабах целых цивилизаций. На этой социальной основе в XX в. возник экуменизм — религиозно-политическое движение, не ограничивающееся конфессиональными рамками одного лишь христианства, имевшее целью сближение и сотрудничество христиан с представителями различных конфессий по всему миру. Инициаторами экуменистического движения выступили протестантские церкви. В 1910 г. в Эдинбурге состоялась Всемирная миссионерская конференция, явившаяся первой масштабной экуменической акцией. В 1948 г. в Амстердаме был создан Всемирный совет церквей (ВСЦ), в который вошли представители 147 церквей из 44 стран. В начале 1990-х годов членами ВСЦ были уже более 300 церквей из более чем 100 стран. В настоящее время христианское экуменическое движение сотрудничает и с нехристианскими религиозными организациями — Всемирным исламским конгрессом, Всемирным братством буддистов, Академией исламских исследований и др. На фоне масштабных геополитических процессов идет процесс развития экуменического религиозного сознания. Развивающаяся в этом макросоциальном контексте христианская социальная аналитика несет в себе ориентированность на планетарную всеохватность своих когнитивных интенций. Второе. Категории христианской социальной аналитики эсхатологичны, апокалиптичны, т. е. органично приспособлены для разговора о трагической сути земной жизни человеческого рода, в том числе о современном глобальном кризисе, в который вовлечены все без исключения большие и малые социальные субъекты, все индивидуумы и сообщества, населяющие Землю. Третье. Категории христианской социальной аналитики девиантологичны, поскольку говорят о греховной природе человека, т. е. об исходной девиантности поведения индивидов и состоящих из них сообществ. Библейская концепция девиантного поведения — это не что иное, как теология греха. Она восходит к понятию греха как отклонения от религиозной нормы, как нарушения божественной воли, нравственного преступления, предполагающего ответственность виновного не только перед людьми, но, прежде всего, перед Богом. Универсализм библейской девиантологии Сходство содержания научно-теоретической категории девиации со значениями и смыслами библейского понятия греха заставляет современных девиантологов с должным вниманием отнестись к тому социальному опыту, который сосредоточен в Ветхом и Новом Заветах. Здесь им, вероятно, придется идти по стопам современной философской антропологии и этики, прямо признающих, что они не в состоянии обойтись без понятия греха, фиксирующего глубинные религиозно-метафизические основания таких социальных акций и качеств, как порок, проступок и преступление. Секулярное теоретическое сознание охотно пользуется категорией греха, понимая под ним «несобранность, расслабленность, погружение в жизнь такую как она есть, несерьезность, неспособность координировать ее, господствовать над собой и владеть собой... Опошляя и рассеивая возможности человека, грех делает обезличенной и бессмысленной его жизнь, препятствует формированию его личности, отделяет его от бытия и от существования» (Н. Аббаньяно). Общепризнанно, что многоаспектная семантика и аксиология понятия греха способствует прояснению целого ряда экзистенциальных, духовно-нравственных и морально-правовых проблем. Богословы указывают на то, что в Ветхом Завете содержание греха раскрывается при помощи восьми древнееврейских понятий с разными смысловыми оттенками: 1) «чата»— непопадание в цель, отклонение от цели, т. е. отклонение от требования Божественной воли; 2) «ра» — разрушение в природе, теле, духе; 3) «паша» — мятеж, бунт, возмущение; 4) «авон» — виновность в допущенной несправедливости; 5) «шагаг» — заблуждение, ошибка; 6) «ашам» — вина перед Богом; 7) «раша» — нечестивость как противоположность праведности; 8) «таах» — обман. В Новом Завете смысл греха раскрывают двенадцать греческих понятий: 1) «какое» — нравственный порок; 2) «понерос» — нравственное зло, исходящее от злых духов, бесов; 3) «асебес» — нечестивость как результат отхода от Бога; 4) «енохос» — виновность, заслуживающая суда или даже смерти; 5) «хамартиа» — отклонение, промах мимо истинной цели, попадание в другую, нежеланную цель; 6) «адикиа»— неправда, неправедность, несправедливость; 7) «аномос» — беззаконие, вседозволенность; 8) «парабатес» — нарушитель юридических законов, преступник; 9) «агнозин» — невежество, следствием которого является поклонение ложным богам; 10) «плано»— обман, ложь; 11) «пароаптома»— нравственное падение, преступление; 12) «ипокрисис» — фальшивое учение, ложная идея, лжеучение. Феномен греха, взятый во всем его объеме, представляет собой сложную, многоаспектную реалию с теологическим, аксиологическим, этическим, социологическим, девиантологическим и прочими измерениями. В теологическом отношении грех — это отклонение от Божественного предназначения. В аксиологическом смысле он представляет собой ложную ценностную ориентированность сознания и поведения. В этическом значении он выступает как нарушение нравственной нормы. В социологическом аспекте это обобщенная формула анормативной социальной акции. Для девиантологии же понятие греха — это вообще ключевая универсалия, элиминированная за ее пределы только в силу предельной секуляризованности современного социологического сознания, что, однако, не мешает последнему широко использовать различные светские транскрипции этой религиозно-богословской категории. Традиции иудаизма и христианства связывают предрасположенность людей к нарушениям божественных заповедей, религиозно-нравственных запретов на ложь, воровство, прелюбодеяние, убийство с первородным грехом. Грехопадение прародителей, их отпадение от Бога как главного и единственного источника жизни разрушило основания изначального богоподобия людей, сообщило им склонность к употреблению своего разума и свободной воли во зло себе подобным, т. е. к порокам и преступлениям. Средневековая религиозно-церковная традиция утвердила представление о наиболее серьезных антропологических изъянах, присущих человеческой природе, — семи смертных грехах. Все они производны от порока гордыни, являющегося в свете христианской этической аксиологии «сверхгрехом». Именно гордыня послужила некогда причиной измены ангела света Люцифера и повлекла за собой его наказание — низвержение с небес и превращение в Духа зла. От гордыни, как отсутствия смирения перед Богом, произошли все смертные грехи — тщеславие, зависть, гнев, уныние, скупость, чревоугодие и расточительность. Каждый из них, в свою очередь, способен порождать другие порочные свойства. Так, из тщеславия следуют непослушание и чванство; из зависти — ненависть и т. д. Иисус Христос указывал на гибельность таких грехов, как святотатство, хула на Духа Святого, нарушения заповедей Моисея, неверность Сыну Божьему, недостаток веры, бесплодие, гневливость, алчность, прелюбодеяние, лицемерие, показное благочестие и др. Их корни также уходят в глубину тысячелетий — туда, где произошло первое грехопадение, изменившее человеческую природу. Указанные девиации составляют ветвящееся древо разнообразных человеческих грехов. Оно свидетельствует о том, что все эти антропологические дефекты, вместе с производными от них опасными наклонностями, моральными изъянами и разрушительными пороками, обрекают социальный мир еще долго «лежать во зле». Большая часть людей не ведают истинной цели своего земного существования и потому в своей духовной слепоте идут широким путем греха, ведущим их к вечной погибели (Мф. 7, 13). Пока человек пребывает в его настоящем антропологическом статусе и регулярно нарушает религиозные нормы, пока от родителей к детям передается все то, что составляет человеческую природу, «Царство Божье» на Земле не сможет утвердиться. Человек может сетовать на свою причастность к грехопадению прародителей, но отменить его воздействие на себя и свою жизнь он не в состоянии. «Без сомнения, нет ничего, столь оскорбительного для нашего разума, как слова, что грех первого человека сделал виновными тех, кто удален от этого источника, что как будто никак не мог в том грехе соучаствовать. Такое продолжение кажется нам не просто невозможным. Оно представляется и крайне несправедливым, ибо что может более противоречить законам нашей жалкой справедливости, чем осуждение навечно ребенка, не имеющего воли к греху, к которому он как будто бы столь мало причастен и который был совершен за шесть тысяч лет до его рождения. Конечно, ничто нас не ранит так больно, как это учение. И, однако, без этой тайны, самой непостижимой из всех, мы останемся непостижимы для самих себя. Запутанный узел нашей судьбы берет свои начала и концы в этой бездне. И потому человек более непостижен без знания этой тайны, чем эта тайна непостижна человеку». («Посему кажется, что Господь, желая сделать сложность нашего бытия непонятной нам самим, запрятал этот узел так высоко, или, вернее сказать, так низко, что мы никак не можем до него добраться. Так что к истинному знанию о самих себе нас ведут не гордые усилия разума, но его бесхитростное смирение)» (Б. Паскаль). Рассуждая таким образом, французский мыслитель полагал, что существуют две, равно непреходящие, истины веры. Первая состоит в том, что человек уподоблен Богу и вознесен над всей природой. Другая гласит, что он отпал от этого состояния, отклонился от должного пути, оказался поврежден и уподобился животным. Оба эти утверждения равно верны и непреложны. Желает того человек или нет, но он обязан их принимать. Нарушения норм, отклонения (девиации) от них — необходимый момент мирового процесса в целом и социального бытия людей в частности. Грех — обычное состояние, в котором пребывают люди, вынужденные жить в социальном мире, лежащем во зле. Когда Эпикур в своем учении об отклоняющихся атомах представил девиантное поведение атомов как главное онтологическое основание существования не столько греха, сколько свободы, то он указал на возможность позитивной трактовки девиаций, поскольку вслед за ним, уже в новое время была протянута логическая цепочка неоднозначных зависимостей между социальной девиантностью, свободой и культурой. Христианское сознание не склонно видеть безусловную причину совершаемых людьми грехов только лишь в дьяволе. Хотя последний и побуждает людей к отклонениям с пути добродетели, но человек в своих волеизъявлениях всегда остается свободным. Поэтому ответственность за податливость искушениям и соблазнам лежит в первую очередь на самом человеке, чьи моральные качества не позволили ему устоять перед искушениями и соблазнами. Дьявол — это система объективно существующих предпосылок для индивидуального грехопадения, которая, хотя прямо и не навязывает человеку логику падения, но, без сомнения, значительно влияет на совершаемый им выбор, стремясь подтолкнуть его к крайностям. Так, если для католической церкви дьявол — это враг церковного мира и тайный вдохновитель ересей, то у М. Лютера он – апологет мнимого единства, который поддерживает церковный мир путем нарушения гражданского мира. Будучи непременным участником сцен гражданского быта, присутствуя в гражданской повседневности, архивраг искушает людей, выступает вдохновителем политических бесчинств, внушает массам мысль о возможности насильственного переустройства мира. Согласно христианским воззрениям, заложниками разнообразных девиаций оказываются все те, кто существует в состоянии безверия и, следовательно, живет без защиты Божьей. Поэтому дьявол и его бесы могут причинить им множество неприятностей — ослепить их умы, столкнуть их с прямых путей, заставить бесконечно долго плутать в стороне от широкой, торной дороги. И все же, несмотря на то, что духи зла способны подчинять людей своей воле, их власть не безгранична, а действенна лишь в пределах, определенных Богом. Иисус Христос своей смертью и воскресением победил грех и смерть и упразднил былую власть дьявола и его бесов над людьми. После этого власть бесов сохраняет свою силу только над теми людьми, которые не веруют во Христа. Об этом существует бесконечное множество старинных и современных свидетельств. Одно из них в развернутом виде представлено в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» (1872), рассказывающем о гибельных последствиях человеческого безверия. Примечательно, что этот роман, который можно рассматривать как своего рода энциклопедию криминально-политической девиантологии, имеет два эпиграфа на тему бесов. Первый взят из стихотворения А. С. Пушкина:
Второй эпиграф взят из Евангелия от Луки: «Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся» (Лук. 8, 32-37). В этих эпиграфах ключ к содержанию романа-пророчества, который рассказывает о том, как в русских людей вселились бесы, увлекли их в сторону с путей истины и добра и, в конечном счете, погубили. Достоевский сетовал на то, что молодежь не защищена против «бесовщины» ни зрелостью твердых убеждений, ни нравственной стойкостью и что у многих материальные побуждения господствуют над высшей идеей, а настоящее образование заменено стереотипами «нахального отрицания с чужого голоса», недовольством и нетерпением. Не только роман, но и сама российская социально-политическая действительность свидетельствует о том, какое великое множество чистых и простодушных людей участвовали в разрушении России и в, конечном счете, гибли сами из-за того, что оказались в плену безверия и потому не смогли противостоять власти темных, бесовских сил, столкнувших их с путей правды. Случается, что человеческое сознание, оказавшееся во власти темных искушений, пытается взглянуть даже на Бога в свете девиантологических категорий. Так, некогда один голландский теолог-протестант задал Декарту вопрос: «Может ли Бог создать ненавидящее Его существо?» Если этот вопрос поместить в контекст девиантологии, то он будет звучать так: «Способен ли Бог на девиантное поведение?» или «Присущи ли Богу девиации?» По большому счету такие вопросы абсурдны. В подобных случаях имеет место логика антропоморфного мышления, когда на Бога, являющего Собой абсолютное совершенство, переносятся особенности сугубо человеческого поведения. И в итоге возникают суждения, звучащие либо как парадоксы, либо как недоразумения. Кроме первородного греха, носителем которого является каждый человек, существуют еще и грехи личные, за которые каждый, кто их совершает, несет персональную ответственность. Личные грехи не передаются от одного человека к другому. Существует несколько форм, в которых они проявляются. Во-первых, это практические действия, идущие вразрез с повелениями Бога, нарушающие краеугольные заповеди, данные Им людям для исполнения. Во-вторых, это высказывания, либо содержащие хулу на Духа Святого, либо наносящие прямой вред другим людям, либо свидетельствующие о том, что сам говорящий оскорбляет тот образ и то подобие Божье, которое носит в себе. В-третьих, это помыслы, еще не реализовавшиеся намерения, желания совершить нечто недолжное, запретное. Грех лишает человека возможности испытывать истинные радости жизни, отнимает у него высокое дерзновение в молитве. Он свидетельствует о глубоком внутреннем разладе в строе человеческой души, о нарушении иерархии, соподчиненности элементов в ценностно-нормативных структурах индивидуального духа. Эта разлаженность препятствует выстраиванию правильных отношений человека с окружающими людьми, с социальной и природной сферами, с миром культуры. Но главное, о чем свидетельствует грех, — это о ложном отношении человека к Богу, о неспособности верно использовать ту любовь и благодать, которую Бог расточает на все живое. Совершая грех, человек демонстрирует пренебрежение своим тинным призванием и предназначением. Человек греха и беззакония – это человек лукавый и нечестивый. Он «ходит со лживыми устами». «Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его; он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры... Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые помыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями» (Прит. 6, 12-19). «Греховность макросоциальной системы» как предмет девиантологического анализа Для геосоциальной девиантологии особое значение имеет понятие общественного греха. Его использовал Вл. Соловьев, когда рассуждал о причинах гибели Византии. Он писал: «Царства, как собирательные целые, гибнут только от грехов собирательных — всенародных, государственных — и спасаются только исправлением своего общественного строя или его приближением к нравственному порядку» [1]. Главным собирательным, общественным грехом Византии и основным проявлением византизма явилось «полное и всеобщее равнодушие к историческому деланию добра, к проведению воли Божией в собирательную жизнь людей» (Там же. С. 160). В понимании Вл. Соловьева византизм характеризовался рядом следующих «общественных грехов»: 1) отсутствием высшей задачи перед обществом и государством, которая соответствовала бы христианским идеалам; 2) отсутствием явно выраженного стремления к совершенствованию; 3) равнодушием государства к неформальной религиозно-гражданской, религиозно-нравственной жизни людей и к развитию ее проявлений; 4) первостепенной заботой не о душе народной, а о социальном теле государства, об упрочении его организации; 5) резким несовпадением деятельности русских царей с идеалом христианского государя и все глубже проникающим в народное сознание пониманием того, что правители отступают от этого идеала; 6) зависимостью высшего начала, христианской церкви, от начала низшего, государства. От собирательных, общественных грехов, т. е. от непростительных отклонений от должного погибли такие макросоциальные системы, как Российская империя, а спустя время и империя советская. Примечательно, что через сто лет после Вл. Соловьева папа Иоанн Павел II использовал в своем послании "Reconciliatio et panietentia" от 2 декабря 1984 г. и в энциклике "Sollicitudo rei socialis" (1988) понятия «социальной греховности» и «греховности системы». Он писал: «Говоря о греховных ситуациях или выступая против греховности определенных социальных ситуаций и поведения более или менее крупных социальных групп, или даже позиции целых и их объединений, Церковь с пониманием заявляет, что эти случаи социальной греховности являются результатом, скоплением и концентрацией многочисленных личных грехов. Это сугубо личные грехи тех, кто способствует и побуждает к беззаконию и даже использует его; тех, кто, имея возможность устранить, исключить или хотя бы уменьшить какое-либо социаальное зло, не делает этого по беспечности, из страха или потворствуя закону молчания, по тайному сговору или по равнодушию; тех, кто ищет оправдания в мнимой невозможности изменить мир; а также тех, кто хочет уклониться от действии под предлогом причин высшего порядка» ("Reconciliatio et panietentia", 1984: 16). В энциклике 1988 г. папа Иоанн Павел II ставит геосоциальный диагноз мировой цивилизации конца XX в.: «Следует подчеркнуть, что мир, разделенный на блоки, управляемый жесткой идеологией, где вместо взаимной зависимости и солидарности господствуют различные формы империализма, не может не оказаться под властью "греховности системы". Сумма негативных факторов, которые противодействуют истинному пониманию всеобщего блага и долга ему содействовать, как бы создает в людях и в учреждениях барьер, на ; первый взгляд, труднопреодолимый» ("Sollicitudo rei socialis", 1988: 36) Христианскую модель геосоциальной реальности стремятся извратить и разрушить многочисленные «общественные грехи», пытающиеся подменить Бога идолами. Это революция как «обобществленная страсть» и национализм как незаконное присвоение себе (отдельными народами печати божественной избранности (Д. де Ружмон). К этому можно добавить милитаризм как обожествленную воинственность, религиозный экстремизм и ксенофобию как разновидности сакрализованной нетерпимости, политическую вседозволенность как абсолютизированный волюнтаризм и другие девиации. Каждая серьезная геосоциальная девиация обладает собственным теологическим смыслом. Он, как правило, не очевиден и его обнаружение требует значительных духовных усилий. Но у всех отклонений существует общее сходное основание: они указывают на определенный замысел Бога., допускающего их и стремящегося через них довести до человеческого сознания некие важные идеи, открыть перед ним возможность понимания того, к чему иными путями оно прийти не могло. В свете христианской теологии человек и человечество не властны над своим прошлым, но имеют возможность распорядиться собственным будущим. Прошлое с его грехопадением и сохраняющейся от него на всех живущих печатью первородного греха имеет вид необратимой, неизменной необходимости. Но настоящее — это сфера, где каждый человек не только подчиняется инерции необходимости, но и может проявить свою свободную волю. Будучи греховен по определению, человек, тем не менее, имеет возможность спасения, в котором заключается главная цель, предопределяющая жизнь и деятельность каждого христианина. Оно же есть конечная цель христианского человечества, и траектория движения к ней составляет ту магистраль, которая отвечает всем критериям истинности. Любое вольное или невольное соскальзывание с этой магистрали являет собой пример социальной девиации. Все многообразие существующих девиаций различается между собой степенью и характером (содержанием) отклонения от пути, ведущего к спасению. Бог не предопределял грехопадения, но спасение от греха Он предопределил. Основанием девиаций служит следующая теологическая предпосылка: Иисус Христос умер за все человечество, но спастись смогут только уверовавшие в Него; отвергнувшие же Божью благодать, уклонившиеся от пути, ведущего к спасению, погибнут безвозвратно. Таким образом, девиации чреваты потерей возможности спасения. Однако Бог — не жесткий детерминист и Его предопределение — это не столько линия необходимого, предписываемого социального поведения людей, сколько пространство разнообразных моделей приемлемых действий. Бог обнаруживает Свою суверенную волю, предопределяя те события мировой истории, которые Ему угодны. Однако Он оставляет за людьми право свободного выбора: следовать по предначертанному Им пути или уклоняться от него. Бог не распространяет предопределение на всех людей и не обязывает их жестким образом исполнять Его волю. Демонстрируя свою свободу, они могут творить зло, но за это будут лишены спасения. Христианское сознание рассматривает грех как тяжкое, неблагодарное бремя, от которого человек может и должен стремиться освободить себя. Для этого ему следует обратить собственный гнев не на себя, а на грех. Но нередко бывает так, что избавиться только лишь собственными силами от тяжести греховного бремени человек не в состоянии. В этом отношении характерны судьбы алкоголиков и наркоманов, оказавшихся в тяжком рабстве у своих патологических наклонностей и не способных вырваться из него. Но там, где тщетны надежды на свои слабые силы, помочь человеку может упование на Духа Святого, надежда на благодать Божью. И тогда обнаруживается: то, что невозможно осуществить человеческими силами, становится реальным при подключении энергии веры, при участии Духа Святого. Христианский мир знает бесчисленное множество свидетельств, когда грешники, начиная с евангельской Марии Магдалины и вплоть до падших людей, живущих в сегодняшнем мире — проституток, пьяниц, наркоманов, преступников, — неузнаваемо изменялись, полностью освобождались от греховных наклонностей. «Грех убивает и губит души тысячами и тысячами смертей различных, не временных, но вечных. Покаяние их оживляет, их воскрешает, их жизнью озаряет. Грех обманывает души и жестоко их сковывает... Покаяние их освобождает. Грех делает души враждебными и злобными к Богу. Покаяние восстанавливает мир да согласие» (Ж. де Жерсон). У борьбы с грехом в себе и в других имеется своя этика, которая во многом напоминает воинскую этику, и рекомендации которой похожи на прямые предписания воинского устава. Этот дух благородной воинственности хорошо передают слова Иоанна Златоуста: «Не будем довольствоваться исканием собственного спасения; это означало бы погубить его. На войне и в строю, если солдат думает только о том, как бы спастись бегством, он губит себя и своих товарищей. Доблестный солдат, который сражается за других, вместе с другими спасает и себя самого. Раз наша жизнь есть война, самая жестокая из войн, сражение, битва в строю, будем оставаться в рядах, как приказал нам Царь, готовые разить, пролить кровь и убить, думая об общем спасении, ободряя стоящих, поднимая лежащих на земле. В этой битве много наших братьев опрокинуты, ранены, залиты кровью, и никто не печется о них, ни мирянин, ни священник, никто из товарищей по оружию, друзей и братьев; каждый из нас преследует лишь собственные интересы». Одной из сложнейших религиозно-нравственных проблем является проблема христианского отношения к грешнику. От христианина требуется готовность и способность прощать своим ближним их прегрешения. Бог способен прощать людям грехи. Божественная любовь прощает грех и тем самым превращает происшедшее в непроисходившее. Этим путем должны следовать и люди. Но каким образом можно относиться к греху как к несуществующему? Казалось бы, никто не в состоянии сделать однажды бывшее не бывшим. Но то, что невозможно в онтологическом смысле, возможно в смысле этическом. Христианская аксиология в данном случае опровергает онтологию и возникает один из замечательных этических парадоксов, согласно которому прощение грехов не унижает прощающего, а нравственно возвышает его. «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: "до семи", но до семижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21-22). В борении христианина с грехом важна нравственная самодисциплина, уповающая на Божью помощь, которую Иоанн Кассиан сравнивал с хождением по канату, растянутому на высоте. Удерживаться в этом хождении человеку помогает только постоянное памятование о Боге. Если эта память ему изменит, то это будет равносильно тому, как если бы канатоходец потерял равновесие, что для него равносильно падению и мучительной гибели. Чтобы этого не произошло, не следует терять Бога из поля своего внимания. Христианину недопустимо ни на мгновение отворачиваться от света, исходящего от Него. Аналогичным образом обстоит дело и с такими геосоциальными сверхсубъектами, как цивилизации. Те из них, кто отвергает христианские ценности, неизменно становятся заложниками опасных девиаций. Французский философ Ж. Маритэн писал о том, что людям всех культур и цивилизаций возвещено только одно имя, которым они могут быть спасены — имя Иисуса Христа. «Самые могущественные цивилизации, не знающие этого имени, неизбежно уклоняются в том или ином отношении от полного понимания цивилизации и культуры; порядок или свобода делают их одинаково жестокими. Даже подлинно христианская цивилизация не избегает многих случайных изъянов. Но только христианская цивилизация может быть избавлена от существенных недостатков» [2]. Интертекст геосоциальной реальности В свете методологических установок христианской девиантологии геосоциальная реальность, рассматриваемая как интертекст, живет интертекстуальными связями с великим множеством текстов прошлого, настоящего и вероятного будущего. Сквозь многообразие самых разных текстов пролегают различные семантические, аксиологические, нормативные и прочие линии развития антропосоциологического знания, восходящие к библейскому интертексту. Как геосоциальный интертекст живет внутри онтологических предустановлений, задаваемых библейским интертекстом, так и библейский интертекст как духовная целостность присутствует внутри геосоциального интертекста. Во втором случае это выглядит как наличие у социального сознания глубинной библейской памяти. Даже наиболее модернизированные направления современной социологической теории обладают библейскими мнемоническими вкраплениями. Последние способны весьма органично вписываться в современные теоретические контексты, свидетельствуя о молчаливом присутствии в пространстве современного социологического дискурса памяти о двухтысячелетней истории христианского мира. Интертекст геосоциальной реальности существует как бы в ожидании аутентичных моделей понимания и толкования. При этом он допускает наличие целого веера возможных разночтений, поскольку каждая антропосоциальная реалия несет в себе несколько смысловых уровней. Во-первых, это буквальные конкретно-социальные смыслы, обнаруживаемые усилиями позитивной рассудочной социологии. Во-вторых, это исторические смыслы, обнаруживаемые в результате исследовательского внимания к социально-историческому контексту изучаемой социальной реалии. В-третьих, это философские смыслы, вскрываемые социальной философией. В-четвертых, это морально-этические смыслы, обнаруживаемые теорией морали. В-пятых, это теологические смыслы, составляющие предмет исследовательского интереса социального богословия. В каждом из этих прочтений интересующая исследователя социальная реалия включается в конкретную систему причинно-следственных зависимостей и смысловых координат и тем самым обретает совершенно особый смысл и особое значение, каких она не могла бы иметь в других каузально-семантических контекстах. Интертекст геосоциальной реальности существует объективно. Но в человеческом восприятии он обретает различные субъективно окрашенные смысловые конфигурации. Он может быть прочитан как глазами секулярного рассудка, так и духовными очами разума, питаемого верой. В том и другом случае возникнут картины, существенно отличающиеся одна от другой. Суть этого различия с предельной отчетливостью объясняет библейский стих: «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Подобное расхождение описательно-объяснительных версий будет обусловлено не только различием миросозерцательных установок, но и тем, что в самой геосоциальной реальности присутствуют, как минимум, два уровня. При этом высший уровень социально-политического интертекста с присутствующими в нем сакральными значениями и смыслами, как правило, скрыт от секулярного рассудка, привыкшего к упрощенным объяснительным схемам позитивистского характера. Пребывающий в мировоззренческой оппозиции к сакральному миру, он, хотя и обладает способностью к рациональному анализу социальных реалий, однако же их глубинное понимание ему не доступно в силу его намеренной отстраненности от библейского интертекста. Между тем «интертекстуальная компетенция» или «внетекстовое знание» социолога, размышляющего о дисфункциях и девиациях развития классических и современных форм христианской цивилизации, — это знание, восходящее в первую очередь к библейскому интертексту. Из этого следует, что от исследователя требуется чуткость к библейским реминисценциям, присутствующим в сопредельных социогуманитарных текстах литературно-художественного, философско-теологического, социально-исторического, культурологического, нравственно-психологического характера. С позиций христианской социологии геосоциальный интертекст, взятый во всем его обозримом пространственно-временном объеме, — это результат совместных усилий Бога и людей, а социальная история человечества — это бесчисленные свидетельства Божьего спасительного труда, демонстрация того, как Бог вёл и до сих пор продолжает вести человеческий род через зоны и кайросы, наставляя, воспитывая, поощряя и наказывая его. И хотя наказания иногда достигают такой степени суровости, что людям начинает казаться, что Бог оставил их, они все же в их земной жизни никогда не оказываются совершенно забытыми Им. Теоретическому сознанию, стоящему на позициях христианской социальной аналитики, всегда важно определить, что Бог желал сказать людям посредством того или иного социального события. Для него несомненно присутствие в каждом из событий определенных теологических смыслов, и если люди в силу специфики выбранных ими ориентиров оказываются не в состоянии их прочесть или же просто не желают рассматривать их в свете богословских принципов откровения, то они тем самым лишают себя шанса не только адекватно понять, что с ними происходит, но и возможности увидеть выход из того хитросплетения безжалостных обстоятельств, пленниками которых они оказались. _________________________________________________________________________________ 1. Соловьев В. Византизм и Россия // Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 159. 2. Маритэн Ж. Знание и мудрость. М., 1999. С. 55. Другие интересные материалы:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||