 |
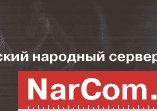 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
"Революционный пафос, неподражаемая стилистика, глубина и притягательная красота идей…" - отзывы коллег Автора. В. Аллахвердов (Автореферат монографии 1993 г. Автореферат был опубликован на правах рукописи в 1994 г. Единственное исправление, которое я себе здесь позволил, — практически полностью удалил список «основных публикаций автора по проблеме» ввиду малодоступности и малостраничности этих публикаций (до начала 1990-х гг. я не имел реальной возможности публиковать серьезные работы). Впрочем, и сама книга еще долго бы не появилась на свет без помощи и поддержки моих давних друзей и коллег Владимира Викторова, Михаила Смирнова и моей жены Ольги Аллахвердовой. Хочу также отметить, что вряд ли я смог бы защитить докторскую диссертацию по монографии «в жанре научной революции» без поддержки тогдашнего декана факультета психологии СПбГУ А. А. Крылова. 1. Общая характеристика работы1.1. Актуальность проблематики исследованияЛогика психической деятельности до сих пор остается загадочной. Она не поддалась рациональной реконструкции путем спекулятивных философских рассуждений. Не помогло психологии и состоявшееся не многим более ста лет назад объявление ее самостоятельной наукой, заимствовавшей у великих естественных наук методы экспериментального исследования. Впрочем, и не могло помочь, потому что в естественных науках эксперимент предназначен для проверки построенных логическим путем гипотез, но в том-то и дело, что в психологии как раз путь логического конструирования покрыт сплошным туманом. В итоге с момента своего возникновения психология оказалась в состоянии кризиса, который длится уже весь XX век (1, с. 104-120). Психологи потеряли надежду, что получаемые ими данные вообще сводимы в единую теоретическую концепцию. Парадигмой психологии стало представление, что психическая реальность столь сложна, что не может быть описана в рамках одной логической системы. У. Торнгейт формулирует для этого специальный «постулат невозможности». Г. Оллпорт объявляет эклектизм «системным качеством» психологии как науки. По 3. Коху, разные части психологического знания никогда не удастся согласовать друг с другом. Б. Ф. Ломов (вслед за Б. Г. Ананьевым) доказывает: психика настолько сложна, что даже саму ее сложность нельзя выразить на языке одной психологии, уже только для этого требуется кооперация многих наук. А В. П. Трусов утверждает: «Сложность и постоянная изменчивость живой личности превышает разрешающую возможность измерительного инструментария научной психологии». Господствующая парадигма разрешает теоретически объяснять только отдельные фрагменты психической реальности. Если же все-таки кто-нибудь рискнет описать многообразие психического с позиции единого теоретического подхода, критики немедленно укажут ему на бессмысленность такой попытки и недопустимую «односторонность». За что критикует К. А. Абульханова-Славская концепцию А. Н. Леонтьева? Да за то, что «упрощенные и обедненные схемы» (а только таковыми и бывают теоретические конструкции) «никак не могут охватить реального многообразия и диалектики развития предмета психологии». При таком подходе обычно подразумевается, что теоретический поиск допустим (т. е. осмыслен) лишь при решении таких задач, которые не претендуют на универсальность. Любое теоретическое объяснение процессов, пронизывающих всю психическую деятельность, скорее всего, будет восприниматься как одностороннее. И все же в диссертации делается попытка сконструировать логику психической деятельности на основе исследования простых и универсальных процессов, таких как сличение и психическая интерференция. Такая постановка проблемы не просто актуальна, она входит в противоречие с существующей парадигмой, а потому в достаточной мере революционна. 1.2. Конкретные задачи исследованияПроцесс сличения всегда рассматривался в психологии как один из самых тривиальных. Все признавали его важность и необходимость, но никто всерьез им не интересовался. Очевидно, что в основе оценки субъектом любых своих психических действий лежит сличение. Но что, собственно, и с чем сличается? Каковы критерии, позволяющие на основании результата сличения сделать те или иные выводы? Как в процессе сличения удается отождествить нетождественное? На эти вопросы не давалось ответа, они обычно вообще не ставились. Рассмотрим простейший пример: пусть субъект нечто вспомнил и хочет проверить правильность своего воспоминания. Что и с чем он должен сличать: свое воспоминание со своим же правильным воспоминанием? Но такое утверждение странно: зачем вообще нужен специальный процесс воспоминания, иногда приводящий к ошибкам, если правильный результат этого процесса заранее известен субъекту? В более сложных случаях часто не найти даже странного объяснения. Каким должен быть акт сличения, чтобы субъект смог убедиться, что он правильно понимает свои ощущения, эмоциональные состояния, желания? Как в принципе можно сравнивать между собой образы и понятия, или представление о самом себе с самим собой, или реальные объекты и их субъективное отражение? То, что субъект умеет осуществлять подобные сравнения, не вызывает сомнения, однако до сих пор никто не объяснил, как это ему удается. Задача исследования в том и состояла, чтобы найти путь логического объяснения этому умению. Менее известен, хотя не менее загадочен, процесс психической интерференции. Психология на рубеже XX века заимствовала термин «интерференция» у физики и медицины для обозначения негативного влияния друг на друга каких-то взаимодействующих процессов. Например, в 1901 г. 3. Фрейд предложил рассматривать ошибки, совершаемые людьми в повседневной жизни, как результат интерференции вытесненных и сознательных намерений. К настоящему времени этот термин проник практически во все области психологии. Сегодня говорят о перцептивной, мнемической, языковой и прочих интерференциях, равно как говорят об интерференции рефлексов, навыков, мотивов, социальных ролей и даже культур. Экспериментально обнаружено огромное число различных интерференционных феноменов, однако не определено, роднит ли что-нибудь, кроме названия, эти феномены между собой. Не установлен признак, позволяющий считать то или иное явление интерференционным. И уж совсем непонятно, зачем какие-то процессы должны накладываться друг на друга с по существу единственной постулируемой целью — мешать самим себе. Чтобы разобраться в существующем терминологическом и экспериментальном хаосе, следует понять логику возникновения психической интерференции. Это тем более важно, что как в процессе интерференции, так и в процессе сличения обычно предполагается некое наложение. Не является ли один из этих процессов ключом к пониманию другого? 1.3. Методологические предпосылкиДиссертационное исследование опирается на несколько взаимосвязанных между собой принципов, отражающих естественнонаучный подход к построению теоретической психологии. 1. Принцип рациональности. Психология, поскольку она объявляет себя естественной наукой, должна исходить из того, что все психические явления поддаются рациональному объяснению, т. е. что все они имеют постигаемые причины. От классического понимания рациональности XVII-XVIII вв. предложенная формулировка отличается, прежде всего, характерной для нашего времени оговоркой: «поскольку психология объявляет себя естественной наукой». Таким образом, утверждается, что иррациональный взгляд на психику не может претендовать на статус естественнонаучного. Наука не может быть ни алогичной, ни противоречивой, т. е. не может быть иррациональной. 2. Принцип простоты (изложенный в формулировке И. Ньютона с сохранением присущей ей стилистики; только Ньютон говорил о природе в целом, здесь же речь идет о природе психического). Природа психического проста и не роскошествует излишними причинами явлений. Поэтому, поскольку возможно, должно приписывать те же причины того же рода проявлениям психического. Тем самым утверждается: любые психические явления должны трактоваться как подчиняющиеся одинаковым законам до тех пор, пока не доказано обратное. Принцип простоты стимулирует исследователей к построению самых простых объяснительных моделей. Данный принцип очевидно противостоит господствующей в психологии парадигме, согласно которой природа психического столь сложна, что ее надо дробить на как можно более мелкие части и искать собственные причины для каждой части отдельно. Типичный пример ориентации на эту расхожую парадигму — общепринятое расчленение единого познавательного процесса на ощущение, представление, мышление и т. д. Расчленение тем более досадное, что, по сути, не имеет никакого теоретического обоснования. Принцип простоты отвергает античную традицию классифицировать психическое еще до понимания общих законов психической деятельности. 3. Принцип идеализации. Теоретические построения в естественных науках (и, соответственно, в психологии как естественной науке) относятся не к реальным, а к идеализированным объектам и процессам. Идеализированные объекты — это такие объекты, которые заведомо не существуют и не могут быть реализованы в действительности. Типичные примеры: математический маятник, идеальная паровая машина, абстрактный труд, абсолютно черное тело и т. д. Теория, однако, призвана описывать поведение как раз идеализированных, а не реальных объектов. Именно поэтому научная теория — это шарж, гротеск, карикатура на действительность, а не описание реальной действительности (1, с. 248-249). Тем не менее денотаты основных понятий, входящих в состав психологических концепций, принципиально никогда не рассматривались как идеализированные объекты. В диссертации вводится представление о человеке как идеальной познающей системе. Иначе говоря, утверждается, что человек идеально приспособлен к познанию, а потому ни одно ограничение познавательных возможностей человека не должно объясняться биологическими закономерностями, физиологическими механизмами, социологическими законами или какими-либо другими не связанными с логикой процесса познания причинами. Выбор именно такой идеализации определяет принятие следующего принципа. 4. Принцип гносеологической редукции. Психическая деятельность есть неизбежное следствие процесса познания. Поэтому логика этого процесса необходима и достаточна для объяснения всех явлений и механизмов психической жизни человека. Почти во всех словарях «психика» явно или неявно определена как нечто такое, что обеспечивает возможность познания. Л. Витгенштейн даже называл теорию познания философией психологии. Тем не менее гносеологическая редукция не очень популярна в психологических рассуждениях. Думается, прежде всего, потому, что такое представление пугает как своим отрывом от реальности, так и своей односторонностью. Однако точно такой же испуг должен был бы появиться после введения любого идеализированного представления. Принцип гносеологической редукции претендует не на истинность, а на эвристичность. Он лишь задает точку отсчета для конкретного исследования. Какой-либо редукционистский принцип неизбежен в любом теоретическом построении, так как должно быть заранее решено, где следует остановиться в поиске причин изучаемых явлений. Редукция к логике познания позволяет, например, утверждать: психическая деятельность не потому такова, что так функционирует человеческий мозг, а, наоборот, мозг так функционирует именно потому, что он должен обеспечивать такую психическую деятельность. 5. Принцип независимой проверяемости. Результат познания только тогда может претендовать на объективность, т. е. на независимость от субъекта познания, когда он получен субъектом совершенно разными, не зависимыми друг от друга способами. В современной методологии науки требование независимой проверяемости обычно выражается в более мягкой форме: научная гипотеза не может быть подтверждена эмпирическими данными, на основе которых была сформулирована, — она должна предсказывать иные результаты, помимо тех, для объяснения которых была выдвинута; научная гипотеза только тогда оценивается научным сообществом как достоверная, если она одновременно обоснована и экспериментально, и логически, и т. д. Предложенная более жесткая формулировка предпочтительнее, так как позволяет распутать самую страшную головоломку в истории гносеологии — показать логическую возможность сопоставления знания об объекте с самим объектом, несмотря на то, что, как отмечал еще И. Кант, «объект находится вне меня, а знание во мне» (1, с. 13-15; 150-163). Принятие двух последних принципов вместе играет исключительную роль в опирающихся на них психологических построениях. Раз любой результат психической деятельности есть результат познания (принцип 4), то он должен независимо проверяться (принцип 5). Это значит, что любой психический процесс должен совершаться несколькими разными и не зависимыми друг от друга способами. В частности, одновременно различными способами должен осуществляться процесс сличения, ибо только в случае получения одинакового результата в независимых процессах сличения можно надеяться на объективность вывода. 1.4. Новизна результатов исследованияПредложенный подход позволяет дать единообразную и оригинальную интерпретацию многим известным в психологии феноменам и закономерностям (от психофизики до социальной психологии). Это само по себе является главной претензией на новизну теоретической конструкции, предложенной в диссертации, поскольку такой разнородный эмпирический материал до сих пор не рассматривался вместе в рамках какой-либо одной психологической концепции. Однако на защиту вынесены лишь наиболее неожиданные результаты: ● открытие феномена неосознанного негативного выбора, позволившего как экспериментально обнаружить новые, так и переинтерпретировать многие известные в психологии явления и закономерности (законы Эббингауза, Йоста, Хика, явления реминисценции и фигурального последействия, наличие плато на кривой научения, таких фаз творческого акта, как инсайт и инкубация, и т. д.); ● описание психической интерференции как следствия непроизвольного контроля над выполнением задачи игнорирования, экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы и обобщение накопленного эмпирического материала под углом зрения предложенного подхода; ● выдвижение принципа активности сличения; ● представление работы механизма сличения по принципу интерференции и вытекающая из этого представления оригинальная трактовка многих психических явлений: существование порогов чувствительности, феномена потери восприимчивости к стабилизированной сенсорной информации и т. п.; формулировка и эмпирическое обоснование принципа неопределенности при сличении; ● констатация наличия позитивно и негативно выбранных элементов эталона при сличении, описание двух одновременно осуществляемых типов сличения — сличения по позитиву (по фигуре) и по негативу (по фону); 1.5. Апробация результатов исследования и их практическое применениеРазличные аспекты диссертационного исследования были представлены на конференциях разного уровня в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллинне, Ереване, Риге, Звенигороде, Иванове, Костроме, Нальчике, Новосибирске и т. д. Диссертация была апробирована на заседаниях кафедры прикладной психологии и социологии Петербургского государственного университета путей сообщения и кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Понимание логики процессов сличения и интерференции должно способствовать не только становлению теоретической психологии, но и развитию новых областей применения психологии на практике. Разумеется, теоретические построения не предназначены для непосредственного практического внедрения, тем не менее они могут применяться опосредованно. Попытки автора применять разрабатываемый им подход на практике были связаны в первую очередь с развитием новых методов обучения, со способами организации социальной среды, с созданием новых приемов психодиагностики, с формированием психологической культуры у студентов. Использование предлагаемого теоретического подхода возможно во многих — обычно кажущихся весьма далекими друг от друга — областях знания: в психофизике, в психолингвистике, в прикладной социальной психологии, в инженерной психологии, а также при разработке систем искусственного интеллекта и т. д. 2. Содержание работы2.1. Процесс сличения: интерференция vs. РезонансОбычно предполагается: любой стимул, воспринятый субъектом, сопоставляется с хранящимися в памяти эталонами. Правда, сразу же возникает проблема: как субъекту удается из почти бесконечного числа эталонов практически мгновенно найти тот, который соответствует поступившему стимулу. Типичный подход к решению данной проблемы, восходящий еще к А. А. Ухтомскому и К. Дункеру, опирается на аналогию с физическим явлением резонанса. Для реализации этой аналогии Ю. Г. Кратин даже выдвигает гипотезу о существовании в центральной нервной системе эталонов как «истинных колебательных процессов», сохраняющихся некоторое время «в контуре циклической системы нейронов». И не так уж важно, что никто ясно не описал механизм отклика эталона на стимул по принципу резонанса. Гораздо важнее внутреннее убеждение физиологов и психологов, что указанная проблема имеет принципиальное решение, согласующееся с законами физики, а потому ей можно не уделять много внимания. Но все же опасно проводить аналогию с резонансом, развивая ее столь далеко, чтобы соотносить его с какими-либо реальными колебательными процессами. Резонанс как физическое явление возникает тогда, когда колебания совпадают и по частоте, и по фазе. (Кстати, на совпадение по фазе должно влиять время поступления стимула, хотя и логически, и эмпирически такое влияние на результат сличения стимула с эталоном весьма сомнительно.) Амплитуда колебаний чистого резонанса равна бесконечности, а следовательно, фиксация полного совпадения стимула с эталоном принципиально невозможна, так как в реальности резонанс просто не достижим. Это значит, что представление о резонансе ничего не дает для понимания процесса сличения, ибо принятие решения о совпадении по существу не может быть связано с резонансом. Впрочем, поклонники резонансной аналогии не обсуждали подобные вопросы: мол, зачем подробно рассматривать мелкие технические детали механизма, о котором и так мало что известно? И думается, не увидели за деревьями леса. Сличение по принципу резонанса не предполагает ни независимой проверки результата, ни гибких, самостоятельно формируемых критериев соответствия. Идея поиска проста: выберем из имеющихся эталонов тот, который в наибольшей степени «резонирует» в ответ на поступивший стимул и тем самым оказывается («резонансная настройка») в максимально возбужденном состоянии. Известно, что точность различения улучшается с опытом. Это значит, по мнению любителей резонансной аналогии, что «кривая резонансной настройки» обостряется в процессе тренировки. Можно допустить, что «максимально возбужденный» эталон должен быть в наибольшей степени похож на стимул. Но как узнать, действительно ли он соответствует стимулу? Как определить границу между сходством и тождественностью? Как установить необходимую величину «обострения» кривой резонансной настройки? Как проверить правильность принятых решений? Ни один эталон не может быть тождествен стимулу. Любое совпадение есть совпадение лишь с какой-то точностью. Акт сличения с гносеологической точки зрения — это всегда отождествление нетождественного. Таким образом, проблема сличения — это прежде всего проблема определения достаточной точности измерений. Если не накладывать никаких ограничений на познавательные возможности человека (что является следствием принятой идеализации), то не может быть никаких затруднений в том, чтобы из многих эталонов найти такой, который с точностью до заданных критериев соответствия был бы идентичен наличной информации. Логика психической деятельности в процессе сличения — это логика образования критериев соответствия. Эти критерии не могут быть предустановлены природой и жестко заданы. Они определяются теми когнитивными задачами, которые в данный момент стоят перед человеком, и должны конструироваться самим субъектом в результате психической деятельности. Тем самым результат сличения основывается на субъективном выборе, а потому должен независимо проверяться. Несмотря на принятую идеализацию, очевидно, что все же существуют такие различия между стимулом и эталоном, которые человек не может зарегистрировать (обычно говорят: из-за генетически заложенных пределов способности к различению). Однако для принятия субъективного решения о результатах сличения нерегистрируемые различия не играют никакой роли, так как не являются субъективной реальностью. Субъект никаких границ не ощущает: коль скоро у него нет возможности соотнести имеющееся различие с каким-либо субъективным опытом, он его просто не воспринимает. Так, человек, глухой от рождения, никогда сам по себе не зарегистрирует свою глухоту, потому что он живет в беззвучном мире и не знает, что такое звуки. Границы собственных познавательных возможностей субъективно не установимы, поскольку не соотносимы ни с каким субъективно переживаемым опытом. Но это значит, что субъект не способен оценить, когда задача различения принципиально не разрешима. Попадание в эту гносеологическую ловушку может быть продемонстрировано в психофизических экспериментах: человек обладает способностью к различению даже полностью идентичных стимулов. И все же из этой ловушки есть выход. Достаточно предположить, что субъект сам устанавливает границу, по обе стороны от которой различие стимулов остается субъективной реальностью. Это значит, что субъект воспринимает то различие, которое лежит ниже установленной им же самим границы, но отбрасывает его как несущественное. Такое объективное снижение чувствительности имеет важное субъективное значение, ибо позволяет субъекту оценивать точность своего различения. Вполне возможно, что при некоторых особых условиях (их любят перечислять экстрасенсы) субъект способен отказаться от установленной границы, но за это он теряет способность критически относиться к своим сенсорным достижениям. Стоит отметить, что способность не различать различимое вряд ли имеет естественное объяснение в рамках подхода к сличению с позиции резонанса. Поэтому предлагается рассмотреть другой принцип работы механизма сличения — принцип интерференции. Интерференция как физическое явление регистрируется не только при наложении близких по частоте волн (временная интерференция), но и при наложении произвольных, например точечных, конфигураций (пространственная интерференция). Рассмотрим возникновение последней на простейшей модели. Допустим, на большой чистый лист бумаги нанесено огромное число точек, а небольшой фрагмент полученной точечной конфигурации перенесен на кальку. Пусть теперь требуется найти тот участок большого листа (аналог эталона), который соответствует данному фрагменту (аналог стимула). Если лист очень большой, фрагмент маленький, а точек много (т. е. имеется большой набор эталонов), то решить эту задачу «на глаз» невозможно. Для решения надо наложить кальку на лист и последовательно ее перемещать. Когда изображение на кальке совмещено с совершенно другим участком листа, то точки на кальке и листе лишь случайно могут полностью или частично наложиться друг на друга. Но вот мы приблизились к нужному участку, причем настолько, что каждая точка изображения на кальке (стимул) частично накладывается на соответствующую самой себе точку на листе (на эталон). Это сразу создает видимую интерференционную картину: все точки одновременно утолщаются. Еще небольшое перемещение — изображение на кальке совпало как раз с тем участком листа, который, собственно, и был нанесен на кальку. Интерференционная картина полностью исчезла. Продолжение перемещения снова вызовет сначала максимальную величину интерференции, затем ее угашение с последующим случайным колебанием относительно некоторого стабильного уровня. Механизм сличения по принципу интерференции обеспечивает обнаружение эталона, соответствующего данному стимулу, как такого фрагмента листа, при наложении на который величина интерференции минимальна (теоретический минимум равен нулю). Искомый минимум окружен двумя симметрично расположенными побочными максимумами, а следовательно, точка положения минимума величины интерференции может быть независимо определена как точка, лежащая строго посередине между двумя максимумами этой величины. Таким образом, принцип интерференции позволяет осуществлять независимую проверку результатов сличения. Ни один принцип, положенный в основу механизма сличения, не позволяет сделать вывод о том, достаточно ли найденное соответствие между стимулом и эталоном для принятия решения об их тождественности, ибо результат сличения не может быть жестко предопределен этим соответствием. Тем не менее и в отношении проблемы достаточности принцип интерференции предпочтительнее принципа резонанса. Видоизменение интерференционной картины происходит только при смещении (модуляции) стимула и эталона друг относительно друга во времени или в пространстве. Регистрируя величину интерференции на каждом шаге модуляции, механизм сличения фиксирует максимумы и минимум этой величины. Точность окончательной оценки зависит от шага модуляции. Размер шага может считаться достаточным в том случае, когда его уменьшение не ведет к уменьшению рассогласования между результатами сличения, полученными двумя разными способами (т. е. совпадение точки минимума с половиной расстояния между максимумами величины интерференции). Разумеется, предшествующие рассуждения не претендуют на большее, чем на формальную аналогию, и не ставят своей задачей описать работу механизма сличения. Однако представление об интерференции как о принципе сличения ведет к содержательным следствиям. Достаточно легко найти многочисленные косвенные подтверждения этого принципа в психофизике. (Только для примера: В. И. Медведев описал следующий феномен — точность воспроизведения эталонного стимула выше, если при повторном предъявлении варьировать этот стимул в пределах зоны неразличения, а не предъявлять постоянно один и тот же неизменный стимул.) Можно вывести и более неожиданные следствия. Так, оказывается, что для механизма сличения, работающего по принципу интерференции, полная идентичность стимула и эталона эквивалентна ситуации отсутствия стимуляции. Получение информации о совпадении стимула и эталона именно в момент их совпадения невозможно. (Сравните: как только нанесенное на прозрачную кальку изображение фрагмента листа накладывается строго на этот фрагмент листа, изображение на кальке исчезает, так как оно полностью сливается с изображением на листе.) Попробуем рассмотреть данное явление на несколько необычном для психофизики материале. Опишем эксперимент, показывающий, что результат выполнения инструкции исчезает из сознания при его совпадении (слиянии) с самой этой инструкцией. Испытуемые (56 чел.) выполняли подряд серию перцептивных, мнемических, логических и шутливых задач. В одной из них испытуемым предлагалась несложная проблемная ситуация, которую, однако, не надо было решать, а требовалось «слово в слово воспроизвести данное задание». Самим заданием, таким образом, был как раз текст, взятый в кавычки. Все испытуемые, выполняя именно эту инструкцию, достаточно точно воспроизводили описание проблемной ситуации. Но лишь пятеро из них (видимо, они сумели придумать для себя дополнительную задачу, например: надо найти подвох) воспроизвели требование «воспроизведения этого задания». Но это еще не все. Последняя предъявленная задача звучала так: «Задание двадцать первое. Постарайтесь воспроизвести все двадцать одно задание, которые вам были даны». Испытуемые усердно выполняли последнее задание и воспроизвели в среднем 14 заданий. Но о самом задании воспроизвести все задания «вспомнили» лишь четверо испытуемых (1, с. 213-214). Итак, в ситуации, когда то, что заранее дано (в рассмотренном примере — инструкция), сливается с тем, что требуется найти, последнее исчезает из сознания, так как механизм сличения в этом случае не может обнаружить соответствие найденного с тем, что было дано. Принцип интерференции предполагает: сигнал о совпадении стимула с эталоном получается только в процессе модуляции стимула, т. е. в ситуации заведомого искажения стимула. Стоит механизму сличения в точке адекватного соответствия стимула и эталона затребовать информацию об адекватности отражения, как неизбежно начинаются модуляции. Следовательно, когда субъект получает информацию об адекватности отражения, само отражение находится в зоне модуляции стимула где-то между двумя максимумами величины интерференции. Это соответствует высказанной выше гносеологической позиции — за право критически относиться к своим сенсорным достижениям субъект должен заплатить точностью различения. Можно сформулировать своеобразный принцип неопределенности (аналог принципа неопределенности в квантовой механике): в зоне соответствия стимула и эталона нельзя одновременно получить и точное соответствие, и оценку точности полученного соответствия. Иначе говоря, платой за точность отражения является субъективная неопределенность в оценке точности этого отражения. Момент получения информации о соответствии стимула эталону сопровождается одновременным ухудшением найденного соответствия. Принцип неопределенности позволяет дать оригинальную интерпретацию некоторым до сих пор не слишком понятным эмпирическим явлениям. Прежде всего, непривычно трактуется проблема порогов чувствительности. Сегодня вряд ли кто связывает пороги чувствительности с разрешающей способностью сенсорной системы. Но что именно измеряется, когда измеряются пороги? Почему обнаруженные в психофизическом эксперименте пороги чувствительности зависят от процедуры измерения и от принятых испытуемым критериев оценки эффективности своей сенсорной деятельности? Психологи не совсем внятно отвечают на эти вопросы (или, по крайней мере, отвечают по-разному). В рамках рассматриваемого подхода естественно предположить, что обнаруживаемая в экспериментах пороговая зона и есть зона действия принципа неопределенности. Именно в этой зоне происходят модуляции стимула уже после нахождения эталона, соответствующего данному стимулу. Таким образом, вопреки обычной точки зрения, внутри этой зоны субъект способен точно отражать стимулы. Он не может другого — оценивать точность своих ощущений. Такая интерпретация опирается на принцип активности сличения: механизм сличения постоянно проверяет правильность отражения любой входящей в психику информации и результатов ее переработки. Этот принцип кажется вполне целесообразным. Он говорит о том, что человек как познающая система постоянно контролирует ситуацию, в которой находится. Однако можно создать такие искусственные условия для механизма сличения, при которых использование данного принципа приведет в тупик. Само по себе это не должно вызывать ни изумления, ни сомнения в идеальности организации познавательной деятельности: никакая идеальная система не может быть приспособлена ко всем заведомо невероятным и нереальным ситуациям. Почему, например, не поддающиеся модуляции стимулы (изображения, стабилизированные относительно сетчатки, и т. п.) перестают восприниматься субъектом? Раз механизм сличения должен постоянно сообщать субъекту о результатах своей работы, то для этого он должен постоянно модулировать (видоизменять) входные сенсорные сигналы. По-видимому, именно для этой цели существуют специальные способы, не позволяющие в естественных условиях длительно фиксировать один и тот же неизменный стимул: непроизвольные микродвижения глаз, перемещение точек кожной чувствительности, тремор пальцев и кистей рук и т. п. Искусственная стабилизация стимула относительно органов чувств не позволяет проверять правильность соответствия данного стимула соотнесенному с ним эталону, так как не позволяет модулировать стимул. Казалось бы, поскольку сличение уже было ранее осуществлено, то незачем продолжать процесс сличения неизменного стимула и получать сигнал о соответствии этого стимула ранее уже выбранному эталону. Однако, согласно принципу активности сличения, это не так: любая входящая в психику информация, в том числе ранее уже адекватно отраженная, должна проверяться снова и снова. Если же проверка оказывается неосуществимой, то данная сенсорная информация уже не является, по определению, «входящей в психику», а следовательно, не может более восприниматься субъектом. Понятно, впрочем, что такое странное следствие принципа активности вызвано сугубо искусственным приемом, как бы нарочно предназначенным для запутывания механизма сличения. Как известно, процесс познания насыщен логическими парадоксами. Поэтому неудивительно, что при желании можно еще и похлеще запутать механизм сличения. Представляется, что именно попадание субъекта в логически парадоксальную ситуацию приводит к возникновению феноменов психической интерференции. 2.2. Активность сличения и психическая интерференцияБудем рассуждать так: активность сличения должна проявляться по отношению к любой входящей в психику информации, в том числе и к информации, данной сознанию. Естественно предположить, что после проверки правильности сознательных преобразований информации в сознание поступает информация, уже маркированная полученными результатами проверки. Этого рассуждения достаточно, чтобы сконструировать такую ситуацию, когда факт проверки сам по себе ведет к искажению сознательных намерений человека. Пусть субъект выполняет задачу игнорирования какой-либо информации (типа: «не думай об А», «не обращай внимания на В», «не вспоминай С» и т. д.). Если данное задание сознательно принимается субъектом, то он, в соответствии с обсуждаемым принципом, не способен отказаться от проверки правильности выполнения задачи игнорирования. Но, в силу парадоксальности инструкции, как только субъект начнет проверять, правильно ли он выполняет эту задачу, он с неизбежностью введет в сознание именно то, что ему надлежит игнорировать. Создается впечатление, что именно такая ситуация наблюдается в известных в психологии феноменах, называемых интерференционными. Для того чтобы отличать интерференцию как физическое явление, используемое при сличении, от интерференции как психического явления, регистрируемого в экспериментах, будем в последнем случае говорить о психической интерференции. Почти во всех случаях, когда регистрируются явления психической интерференции, испытуемому дается основное задание, в котором указывается, что он должен делать, но к нему добавляется специфическое дополнительное — нечто игнорировать. Так возникают инструкции: не читая слов, назовите цвет чернил, которыми эти слова написаны (при изучении перцептивной интерференции в феномене Струпа), не обращая внимания на высоту прямоугольников, классифицируйте их по ширине (при изучении ортогональной интерференции) и т. д. Даже если требование игнорирования не содержится в инструкции в явном виде, сами испытуемые осознают необходимость что-либо игнорировать при выполнении основного задания. Если, скажем, испытуемый должен что-либо рассказывать, а акустическая обратная связь от звуков собственной речи подается ему на уши с задержкой (эффект Ли), то испытуемый без всяких инструкций предпримет усилия, чтобы не слушать эти мешающие ему звуки. Элегантность классических интерференционных феноменов, их неожиданность как раз и заключается в том, что в большинстве случаев невыполняемое дополнительное задание сильно мешает выполнению основного. Да и для самих испытуемых интерференционные эффекты часто тем и интересны, что возникают, несмотря на все волевые попытки избежать влияния игнорируемого задания. Правда, такая интерпретация феноменов психической интерференции слишком явно противостоит общепринятым подходам, чтобы принять ее без доказательства. Впрочем, ни одно интерференционное явление не имеет единообразного, удовлетворительно соотносимого с экспериментальными данными объяснения. Вообще, психическая интерференция не столько объясняется, сколько используется как термин для объяснения не слишком понятных явлений. Тем не менее, несмотря на всю путаницу во взглядах на интерференцию, во всех трактовках есть нечто стандартное. Так или иначе, предполагается, что есть какие-то извне заданные ограничения, которые и порождают интерференционные эффекты. Все описания интерференции чаще всего выглядят так, как будто несколько информационных потоков конкурируют друг с другом за захват ограниченного пространства или ограниченных ресурсов. Пусть, рассуждают П. Линдсей и Д. Норман, некоторый блок в структуре переработки информации способен вместить в себя только некоторое фиксированное число единиц информации. Поступление новой единицы вытесняет предшествующую изданного блока. Вот, мол, это и есть интерференция. Хотя сами авторы считают эту модель «слишком простой, чтобы дать четкое представление о процессе», но именно она лежит в основе многих интерпретаций. Однако беда этой модели не в простоте, а в том, что она не имеет никакого отношения к явлениям интерференции. Примитивной реализацией этой модели является устройство стековой памяти в калькуляторе. Но вряд ли хоть один интерференционный эффект удастся продемонстрировать с помощью этого устройства. Модель, конечно, можно усложнять, хотя бы для того, чтобы объяснить вариативность интерференционного вытеснения: почему в одних случаях оно происходит, а в других — нет? Тогда появляются гипотезы наподобие гипотезы ослабления: новая единица не сразу вытесняет старую, а лишь ослабляет ее. Однако гипотезы такого толка трудно рассматривать всерьез. Они изначально предполагают то, что предназначены объяснить, и подтверждаются только теми явлениями, для объяснения которых были созданы. В методологии науки такие гипотезы объявляются дефектными. Правда, при описании конкретных феноменов специфическая негативная форма дополнительного задания в литературе иногда упоминается. Так, для задачи выделения из двух дихотически предъявленных речевых потоков применяют термин «затенение». У. Найссер подчеркивает задачу игнорирования при описании феномена Струпа. Однако ни общего вывода о единстве всех интерференционных феноменов, ни вообще сколь-нибудь ясного логического анализа этой противоречивой инструкции сделано не было. Попробуем вывести экспериментально проверяемые следствия из трактовки психической интерференции как результата проверки выполнения задачи игнорирования. Итак, интерференционные феномены демонстрируют загадочный факт: человек зачастую не способен безошибочно справляться с заданием, которое заключается в том, что его не надо выполнять. Поставим странный вопрос: невыполнение какого задания проще не проверять — сложного или простого? О чем, например, проще не думать: о числе 125 или о числе, которое получается при возведении числа 5 в куб? В последнем случае субъект должен вначале проверить, не возводит ли он нечаянно число 5 в куб, и только затем убедиться, что он не думает о результате этих вычислений. Таким образом, число 125 как бы дважды участвует в процессе сличения: при оценке правильности вычисления и при оценке успешности выполнения задачи игнорирования. Если это рассуждение верно, то чем сложнее задание, тем больше требуется стадий проверки правильности «недумания» об этом задании, т. е. тем дольше то, о чем не следует думать, будет находиться в поле внимания субъекта, а посему — сформулируем первое следствие — чем сложнее дополнительное задание, тем должен быть больше измеряемый в эксперименте интерференционный эффект. Этот вывод почти согласуется с привычным взглядом, что любое дополнительное задание затрудняет выполнение основного. Однако — и на первый взгляд это противоречит здравому смыслу — речь идет о таком задании, на которое запрещено обращать внимание. Тем не менее сделанный вывод хорошо согласуется с эмпирикой. И хотя исследователи не всегда задумывались над оценкой сложности игнорируемого задания, можно легко заметить влияние указанной переменной на величину интерференции. Так, при исследовании мнемической интерференции регистрируется снижение эффективности воспроизведения при предъявлении «отвлекающих» задач (дистракторов) в интервале удержания; при этом установлено, что более сложные задачи (например, более сложные арифметические операции) сильнее мешают воспроизведению. Другой пример относится к области перцептивной интерференции: в феномене Струпа, где инструкцией запрещено читать слова, величина интерференции тем больше, чем медленнее или просто хуже умеет читать испытуемый, т. е. чем — можно полагать — сложнее для него задача чтения. Однако влияние сложности игнорируемого задания на интерференционный эффект в феномене Струпа никогда специально не исследовалось и, судя по всему, никем не предполагалось, поэтому нами (совместно с Л. Е. Осиповым) было проведено исследование, подтверждающее это влияние. В качестве переменной, характеризующей сложность задачи игнорирования текста, мы использовали характеристику семантической насыщенности (осмысленности) используемого в задании текста. Казалось бы, можно считать очевидным, что чем выше смысловая нагрузка на текст, тем этот текст сложнее. К сожалению, в психологии — особенно в психологии памяти — со времен Г. Эббингауза утвердилась другая традиция. Принято считать наоборот: для восприятия и хранения более осмысленной информации требуется «меньше когнитивных усилий». Но как-то не верится, например, что музыкант, смотря в нотный текст (пусть даже для его запоминания), решает менее сложные когнитивные задачи, чем испытуемый, не знакомый с нотной грамотой и воспринимающий этот текст как бессмысленный набор графических знаков. Думается, если субъект рассматривает текст как осмысленный, он совершает больше проверочных действий, чем если он заведомо считает этот текст бессмысленным. Ведь из того, что среди умственно отсталых чаще встречаются лица с феноменальной механической памятью, не следует, что у них более сложная, чем у нормальных людей, когнитивная организация и что при запоминании они прикладывают больше когнитивных усилий. Поэтому далее все же будем исходить из того, что повышение осмысленности текста вполне правомерно трактовать как его усложнение. Начиная с работы Г. Клейна, известно, что величина струп-интерференции минимальна, если не надо читать бессмысленные слоги, но когда в качестве не подлежащего чтению текста используются слова, она резко возрастает. Поскольку данные Клейна обычно интерпретируются в контексте влияния на интерференцию фактора сходства, была сделана попытка получить подтверждение этого результата для чисел. Время опознания цвета произвольных четырехзначных чисел, каждое из которых изображено своим цветом, оказалось больше, чем время называния цвета цветных крестиков. Однако этот интерференционный эффект возрос более чем в два раза, как только четырехзначные цифры стали нести повышенную смысловую нагрузку, обозначая даты известных испытуемым исторических событий: 1812, 1917, 1941 и т. д. В другом эксперименте в качестве текста, написанного разным цветом, использовались не отдельные слова, а известные стихи («Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и т. п.). Игнорировать связный текст оказалось значительно труднее, чем случайный набор слов: величина интерференции приблизилась к стандартным значениям эффекта Струпа, практически не достижимым ни при каких других модификациях методики. Еще более парадоксальным оказывается влияние усложнения основного задания на величину психической интерференции. Если объяснять интерференционные феномены с помощью представления об объемных или ресурсных ограничениях и не замечать, что задача игнорирования — это не обычная задача, то, конечно, естественным должно выглядеть предположение, что усложнение основного задания также должно лишь усиливать интерференционный эффект. Однако это не так. Чем более наше внимание приковано к чему-либо, тем легче нам не обращать внимания на что-либо иное. Следует ожидать, что чем сложнее любая решаемая задача, тем больше времени должно быть затрачено на контроль над ее выполнением и, соответственно, тем меньше времени остается на контроль над работой над любым дополнительным заданием. Но — и в этом-то все дело! — чем меньше контролируется процесс игнорирования, тем лучше он выполняется. Отсюда второе следствие — усложнение основного задания должно вести к уменьшению интерференционного эффекта. Действительно, стоит добавить к основному заданию какое-либо новое требование, как ослабевает мешающее действие задачи игнорирования. Пример: и поиск знаков в цифровой таблице, и выполнение теста Струпа протекает быстрее, если испытуемые одновременно беседуют с экспериментатором. Создается впечатление, что в борьбе с интерференцией люди сами научаются усложнять себе задачу. Характерный пример — мнемонические приемы, которые провоцируют мнемониста усложнять себе задачу (т. е. преодолевать мнемическую интерференцию) путем искусственного увеличения объема подлежащего запоминанию материала, проведения каких-то особых операций с этим материалом и даже усложнения способа извлечения информации. Любое перцептивное и семантическое усложнение материала основного задания также сразу снижает интерференционный эффект. Например, при восприятии двойственных изображений зачастую возникает непроизвольная реверсия, побуждающая испытуемого — вопреки его сознательным усилиям — переходить с восприятия одного значения на восприятие другого. Оказалось, что усложнение изображения облегчает возможность удержания этого значения в поле внимания. (Так, в известном двойственном изображении Э. Рубина «лица — ваза» внимание испытуемых более устойчиво удерживается на лицах до тех пор, пока ваза не будет украшена орнаментом.) Если основное задание в феномене Струпа — опознание цвета — заменить на любое другое, хоть чуть-чуть более сложное (опознание оттенков, формы, ориентации и т. п.), или резко сократить время предъявления, или усложнить способ ответной реакции — например, называть цвета в условиях с задержанной акустической обратной связью (т. е. с помощью эффекта Ли), то во всех этих случаях величина интерференции заметно снижается. Кстати, и сам эффект Ли вызывает меньшие трудности у испытуемых, если они слышат свой голос с задержкой при чтении вслух более сложного текста — например, текста на иностранном языке. Аналогичная картина наблюдается в исследованиях забывания, которое многими понимается как следствие интерференции. Более осмысленные тексты, равно как тексты, легче поддающиеся упорядочиванию и логической классификации, лучше запоминаются, т. е. менее подвержены интерференции. В ряде экспериментов показано, что эффективность воспроизведения повышается при введении иррелевантной информации в материал, предъявленный для запоминания. Так, в исследовании автора (1, с. 230) продемонстрировано лучшее запоминание двузначных чисел, при зрительном предъявлении которых каждое отличалось друг от друга формой, размером, наклоном, фактурой или фоном, т. е. не существенными для воспроизведения параметрами. В целом почти все известные виды интерференционных феноменов демонстрируют «грациозное взаимодействие» (так охарактеризовал О. Нойманн вполне соответствующие следствиям нашего подхода результаты исследований рефрактерного периода — одного из самых известных феноменов интерференции): интерференционные эффекты уменьшаются как при усложнении основного задания, так и при уменьшении сложности дополнительного. Сходство обычно считается самым мощным интерференционным фактором. Это не противоречит развиваемой здесь позиции о природе психической интерференции. Действительно, что проще: «думать о Париже и не думать о Японии» или «думать о Париже и не думать о Франции»? Вряд ли необходимо доказывать, что первое более выполнимо, чем второе. Сходство дополнительного задания с основным как бы само напоминает в процессе основной деятельности о том, что пора бы проверить выполнение задачи игнорирования. Можно дать этому явлению более строгое объяснение, опираясь на принцип интерференции в процессе работы механизма сличения (все-таки в термине «психическая интерференция» есть нечто большее, чем просто метафора). Но, во всяком случае, влияние сходства заданий на величину психической интерференции вполне естественно трактовать как следствие принятой позиции. Более того, благодаря этой точке зрения можно разрешить известный парадокс, связанный с влиянием этого фактора и весьма смущающий многих исследователей. Опишем этот парадокс на примере интерференции в феномене, открытом Дж. Струпом. Вспомним: каждый предъявляемый стимул, используемый для демонстрации феномена, — слово, все буквы которого напечатаны каким-то одним цветом. Оказалось, что испытуемые сталкиваются с затруднениями в назывании цвета букв такого стимула. И чем больше сходство значения используемых слов с цветом букв, тем сильнее этот интерференционный эффект. Так, быстрее всего опознается цвет простых цветовых пятен; затем цвет стимулов, состоящих из бессмысленных слогов; уже потом из слов; далее из слов, имеющих прямые цветовые ассоциации (томат, трава, небо и т. п.); и, наконец, из слов, обозначающих именно те цвета, которыми написаны сами эти слова (т. е. красный, зеленый, синий и т. п.). Но при одном условии: слова, обозначающие тот или иной цвет, написаны или напечатаны другим цветом, не совпадающим со значением слова (например, слово «красный», напечатанное синей краской). Ибо выясняется: при максимально возможном сходстве, когда слово, обозначающее цвет, и цвет написания этого слова совпадают, интерференция не только не достигает максимальной величины, но, наоборот, резко падает. Хотя этот эффект, получивший название эффекта конгруэнтности, не противоречит здравому смыслу, но, как ни странно, существовавшие до сих пор интерпретации не могут его объяснить. Однако вспомним: как только испытуемый проверяет правильность задачи игнорирования, в его сознание попадает то, что он намеревался игнорировать. Но при конгруэнтности заданий это не является ошибкой, так как ответ испытуемого строго совпадает с тем, что в этот момент и должно присутствовать в сознании. Такая точка зрения позволяет по-новому взглянуть на еще один загадочный эффект, связанный, правда, уже с мнемической интерференцией. Речь идет о туманности ответа на вопрос: почему повторение запоминаемого материала в интервале удержания способствует улучшению воспроизведения? Долгое время пытались утверждать, что в процессе повторения происходит «упрочение следа воздействия» — типичное объяснение известного посредством непонятного. После работ А. А. Смирнова и П. И. Зинченко повторению стала приписываться более активная роль: повторение — это способ действий с запоминаемым материалом. Однако мнемонический смысл такой активности все равно ускользал от понимания. Мы же можем рассуждать так: вся информация запоминается человеком совершенно автоматически, не зависимо от какой-либо его активности. Но субъект не может не быть активным (хотя бы потому, что активен его механизм сличения). А то, что субъект делает в интервале удержания, выступает как помеха (дистрактор) к задаче запоминания. Поэтому субъект вынужден сам придумывать такой дистрактор, который не мешал бы ему выполнять инструкцию воспроизведения. Повторение — это попытка испытуемых, не пользующихся мнемоническими приемами усложнения запоминаемого материала, создать задачу-дистрактор, конгруэнтную этому материалу. Подведем итоги. Предложенный взгляд на природу психической интерференции не только хорошо согласуется с известными экспериментальными данными, но и позволяет систематизировать эти данные, описать единую природу различных интерференционных феноменов и, наконец, предсказывать результаты новых экспериментов. Некоторые положения получили подтверждение в независимых экспериментах. Все это говорит по меньшей мере об эвристичности обсуждаемой в этом разделе гипотезы. 2.3. Сличение значений. Феномен неосознанного негативного выбораВ 1973 г. в серии простейших мнемических экспериментов неожиданно был открыт экспериментальный феномен, оказавший решающее влияние на становление представленного в диссертации подхода. Обнаружилось, что невоспроизведенные испытуемым знаки не исчезают бесследно: они имеют тенденцию не воспроизводиться, если их повторно предъявлять в следующем ряду, и ошибочно воспроизводиться, если их более не предъявлять. Позднее это было продемонстрировано для самых разнообразных видов стимульного материала: букв и цифр, двузначных чисел и бессмысленных слогов, симультанного и сукцессивного предъявления звуков темперированного строя, названий игральных карт и т. п. (Единственное выявленное исключение: при запоминании различных списков слов повторно предъявленные слова, пропущенные в предшествующем списке, воспроизводились без особых затруднений — комментарий к этому см. в [1, с. 34-35].) Правда, выяснилось, что тенденция к повторному невоспроизведению достоверно проявляется лишь тогда, когда длина предъявляемого для запоминания ряда знаков такова, что испытуемый правильно воспроизводит 50-80% знаков. При успешности свыше 90% или менее 40% отмеченная тенденция может даже смениться на противоположную. Эти экспериментальные данные требовали объяснения. Если ошибки пропуска имеют тенденцию повторяться, то для повторного невоспроизведения надо помнить, какой знак не следует воспроизводить, опознать этот знак при его предъявлении и только после этого не воспроизводить. Но если испытуемый и опознает, и помнит, то почему не воспроизводит? Ну а уж если не воспроизводит, когда это требуется, то что же вдруг побуждает его чаще случайного все-таки воспроизвести этот знак в неподходящий момент и тем самым совершить ошибку? Странность полученных данных прежде всего в том, что, как оказалось, невоспроизведение не есть воспроизведение, равное нулю. Неосознаваемые, невоспроизведенные знаки не нейтральны для сознания, иначе их влияние на сознательную мнемическую деятельность нельзя было бы зарегистрировать. Все это выглядит так, как будто существует некий когнитивный механизм, специально предназначенный для того, чтобы принимать решение, какие знаки вводить в сознание и воспроизводить (будем далее называть такое решение позитивным выбором), а какие — нет (негативный выбор). Этот механизм, формально напоминающий механизм вытеснения в концепции 3. Фрейда (но не имеющий никакого отношения к психоаналитической интерпретации), стремится сохранить однажды сделанный выбор: позитивно выбранные знаки имеют тенденцию к повторному позитивному выбору, а негативно выбранные знаки — к повторному негативному. Как ни удивительно, но такая трактовка оказывается полезной при интерпретации классических экспериментальных результатов, полученных в исследованиях памяти. Так, закон Эббинга-уза гласит: число повторных предъявлений, необходимых для заучивания всего ряда, растет гораздо быстрее, чем объем предъявленного ряда. Эта формулировка, однако, скрывает сущность феномена: при повторном предъявлении ряда знаков, превосходящего по длине объем памяти, испытуемый, сам не осознавая этого, стремится не столько повысить эффективность воспроизведения, сколько повторить свой предшествующий ответ и тем самым сохранить сделанные ранее позитивные и негативные выборы. Предложенный подход позволяет по-новому и при этом единообразно описать разнообразные мнемические явления: закон Йоста, реминисценцию и т. п. (1, с. 36—37). Неосознаваемая тенденция к повторению предшествующего негативного выбора дает возможность новой интерпретации и в области феноменологии восприятия. Так, фигуральное последействие, обнаруженное в экспериментах Э. Рубина и его последователей, может интерпретироваться существенно иначе, чем это обычно делается гештальтистами и когнитивистами. Повторное выделение одной и той же фигуры на том же самом фоне, принимаемое только за последействие фигуры (сохранение позитивного выбора), вполне может обозначать еще и последействие фона (сохранение негативного выбора) — повторное отнесение к фону того же самого фона. Показывается, что гипотеза о существовании последействия фона лучше известных концепций согласуется с результатами экспериментов по восприятию двойственных изображений (1, с. 60-67). Тенденция к повторению перцептивных ошибок проявляется в различных экспериментах, но, как правило, не отмечается исследователями. Обычно подразумевается: если испытуемый что-либо неправильно опознал, то это значит, что он не имел возможности опознать правильно. Поэтому повторяемость ошибок неудивительна — то, что однажды уже не удалось (из-за помех, нехватки времени, слабой освещенности и т. д.), при повторении ситуации снова приведет к ошибке по тем же самым причинам. Представление о неосознанном негативном выборе предполагает иное: если к испытуемому поступила информация, то он не может опознать ее неправильно, однако он еще должен принять специальное решение, какую из возможных интерпретаций этой информации не следует вводить в сознание. При таком подходе тенденция к повторению ошибок есть тенденция повторять предшествующий негативный выбор в случае, если правильный (с точки зрения экспериментатора) результат опознания уже был до этого отвергнут. Рассмотрим полученные в эксперименте данные опознания показаний стрелочного прибора с полукруглой шкалой (50 вариантов стимула — от 0,1 до 5,0), предъявляемых в случайном порядке тахистоскопически со временем экспозиции 300 мс (данные любезно предоставлены Г. С. Никифоровым). В целом по всему массиву вероятность ошибки — 0,29; вероятность повторной ошибки при следующем предъявлении того же показателя — 0,43 (достоверность различий на 99% уровне). Наиболее ярко это различие проявляется при предъявлении показаний, успешное опознание которых лежит в ключевом диапазоне эффективности для неосознанного негативного выбора — от 50% до 80% правильных ответов. Эмпирическая вероятность того, что из трех подряд сделанных ошибок при предъявлении одного и того же показания прибора все три ошибки будут одинаковыми, почти в три раза больше теоретически рассчитанной вероятности. Оказалось также, что латентный период времени реакции зависит от частоты встречаемости этой реакции на данное показание. Известно, что во многих случаях латентный период безошибочного ответа обычно меньше ошибочного. Не является исключением и данный эксперимент. Однако если выбрать такие показания, на которые испытуемый предпочитал определенную ошибку, которую он делал чаще, чем давал правильный ответ, то латентный период этого ошибочного ответа в среднем меньше, чем латентный период правильного ответа на предъявление этого показания или другого ошибочного. Вообще величина латентного периода зависит от числа использованных вариантов ответа на данное показание. Время реакции выбора, таким образом, зависит не столько от увеличения числа предъявляемых сигналов (закон Хика) или энтропии этих сигналов, сколько от увеличения числа используемых ответов на данный сигнал или энтропии этих ответов. Таким образом, как это ни парадоксально, но по времени реакции в самом начале эксперимента можно предсказывать разнообразие ошибочных реакций, которое экспериментатор сможет зарегистрировать лишь в конце эксперимента. Парадоксальность, однако, заключена уже в самом неосознанном негативном выборе: ведь для того, чтобы повторять ошибки в ответ именно на данное показание, перцептивный механизм должен безошибочно опознать само это показание — иначе он не сможет повторить ошибку. Но уж если заведомо начать делать ошибки, то вполне вероятно, что лучше заранее определить, какие ошибки предпочтительнее. Сходные результаты были получены при предъявлении однотипных глазомерных задач. Каждая задача предъявлялась дважды (второй раз — с поворотом на 180 градусов). Хотя испытуемые не замечали наличие задач-двойников, они показали отчетливую неосознаваемую тенденцию повторять предшествующее решение вне зависимости от того, правильно оно или ошибочно. Если задачи-двойники были решены одинаково, то и при первом, и при втором предъявлении они решались быстрее, чем при разном решении задач-двойников. Иначе говоря, уже при первом решении задачи испытуемый как бы знает, будет ли он повторять это же решение при следующем предъявлении той же задачи. Полученные данные позволили также проверить гипотезу о природе диапазона успешности, в котором эффект негативного выбора может менять знак. Если испытуемый при всем своем старании действует не эффективно (например, не достигает 50%-й успешности в решении однотипных задач), то он может переходить к другой стратегии решения — к стратегии случайного угадывания, которая, как было показано выше, может приводить к спонтанному всплыванию в сознании негативно выбранных решений. Действительно, если при первом предъявлении задачи испытуемый долго ее решал, а в итоге приходил к ошибочному ответу, в котором к тому же сам был не уверен, и если при повторном решении он снова давал неуверенный, но зато быстрый ответ (что может считаться операциональным проявлением ответа наугад), то такой ответ чаще случайного оказывался правильным. Феномен неосознанного негативного выбора был продемонстрирован и при решении арифметических задач. Оказалось, например, что не только умственно отсталые люди или феноменальные счетчики способны переводить любые даты в дни недели. Этот же перевод осуществляют и нормальные испытуемые, но только они негативно выбирают результат этого перевода, а потому пытаются в каждой следующей задаче сохранить то же смещение от правильного решения, которое было ими дано в предыдущей задаче. Возможность негативного выбора правильного арифметического ответа была подтверждена в ряде других экспериментов. Впрочем, интуитивно нечто подобное известно всем преподавателям арифметики. Вспомним, как они учат суммировать длинный ряд цифр в столбик: надо, говорят они, вначале сложить все цифры сверху вниз, а потом обязательно проверить полученный результат другим способом (вычитанием или сложением снизу вверх), иначе, мол, мы можем повторить ту же ошибку в том же самом месте. Но ведь для повторения неумышленной и нелепой ошибки (типа 2 + 2 = 5) необходимо помнить, где и какая ошибка была совершена, не осознавая при этом сам факт совершения ошибки! В серии экспериментов было также показано, что неосознаваемые значения слов-омонимов, а также значения произвольных частей слов (например, «орех» в слове «мореход», «сталь» в слове «ностальгия» и т. д.) при повторном предъявлении имеют тенденцию оставаться неосознанными, а без повторного предъявления или при изменении задания могут попадать в сознание в виде ошибок, ассоциаций и т. п. Влияние предшествующего неосознанного негативного выбора на повторение последующих ошибок удалось обнаружить и при анализе опечаток, которые делают неопытные машинистки. Оказалось, что машинистки не только имеют «любимые слова», в которых они, как правило, делают одни и те же опечатки (что было известно со времен Данлапа, хотя и не имело удовлетворительного объяснения), но и демонстрируют тенденцию делать разные опечатки в одних и тех же словах. Если, скажем, машинистка напечатала слово «тогда» как «тггда», то не следует слишком удивляться, когда при следующем появлении этого слова в тексте оно будет выглядеть как «тоода», «трнда» или что-нибудь подобное. Устойчивость опечаток можно заметить и при типографском наборе. Так, в монографии (1) вместо слова «моторные» регулярно встречается опечатка «моторые»: и на с. 240, и на с. 244, и на с. 246. Открытие описываемого феномена позволило иначе посмотреть на многое. Почему, например, возникает плато на кривой научения? Потому что как только при многократном выполнении однотипных заданий фиксируется стратегия их решения, то, как следствие этого, стабилизируются и совершаемые ошибки. При неудовлетворенности достигнутыми результатами происходит смена стратегии. Задания тем самым субъективно становятся как бы другими. А при изменении ситуации, как уже отмечалось, исчезает тенденция сохранения сделанных ранее неосознанных негативных выборов. Аналогичное рассуждение позволяет лучше понять и эффективность игровых методов в процессе обучения, и эффективность психотерапевтического метода парадоксальной интенции, разработанного В. Франклом. Даже такие загадочные стадии творческого акта, как инсайт и инкубация, получают достаточно естественную интерпретацию. Более того, неожиданно удалось дать оригинальную трактовку художественного творчества, предположив, что оно принципиально ориентировано на актуализацию информации, предъявленной ранее так, чтобы быть обязательно негативно выбранной. Типичный пример — поэтическая рифма, умышленно возвращающая в сознание слушателя исходно вытесненное, «потаенное» значение части слова (актуализирующее, например, для носителя русского языка вытесненное значение «розы» в слове «морозы»). Итак, в эксперименте обнаружен довольно странный феномен. Действительно, зачем делать ошибки, если знать правильный ответ? Ну а уж если делать, то зачем исправлять их невпопад? Зачем принимать специальное решение о неосознании чего-либо? Мало получить экспериментальный результат, его нужно еще понять. Представляется, что ключ к пониманию лежит в механизме сличения. В разделе 2.1 процесс сличения понимался как процесс установления факта совпадения или несовпадения стимула с почти тождественным с ним эталоном. Однако необходимо проверять и совпадение стимула с эталоном в тех случаях, когда они совершенно различны, например, проверять совпадение слова с предметом, который оно обозначает. Очевидно, что в этом случае установление конгруэнтности значений (скажем, слова «красный» и красного цвета) является весьма нетривиальной задачей: ведь любой знак (стимул) может иметь любое значение. Например, слово «красный» обозначает не только красный цвет, но и море, армию, гриб, сигнал светофора, пример слова из семи букв и много чего другого, а к тому же, при желании, еще и все остальное: прическу, героев Эллады, грусть, утюг, синий цвет и т. д. Значением знака (стимула) может быть все что угодно, кроме самого знака. Произвольность связи знак—значение издревле известна лингвистам. Осознание этой произвольности на уровне поведения животных принесло мировую славу И. П. Павлову. Произвольность, однако, не означает непредсказуемости. Значение, однажды приписанное данному знаку, будет и далее устойчиво приписываться этому знаку, если будет неизменен контекст появления знака. В противном случае любая информация обозначала бы все, что угодно, а значит, не обозначала бы ничего. Следовательно, должен существовать специальный механизм, который бы принимал решение: действительно ли данный стимул (как знак) соответствует своему предполагаемому значению. Дабы не вводить сущностей превыше необходимого (принцип простоты в формулировке У. Оккама), будем считать, что тот же самый механизм сличения выполняет и эту функцию. Наложенное ограничение — знак не может быть значением самого себя — в формальных рассуждениях неизбежно, иначе не уйти от логических парадоксов самоприменимости (см. 1, с. 173-175). Важно, что оно также соответствует указанной выше особенности работы механизма сличения: абсолютное совпадение стимула и эталона не может быть зарегистрировано. Любое значение понимается субъектом только в противопоставлении какому-либо другому значению. На это давно обращается внимание в лингвистике. Вещи и явления получают новые имена, как только они начинают рассматриваться в оппозиции к другим вещам и явлениям, т. е. становятся, как говорят лингвисты., элементами контрастивного множества. Так, термин «акустическая гитара» получил смысл только с появлением гитары электрической, а война 1914 г. стала Первой мировой только после возникновения Второй. Осознание мольеровским героем того, что он говорит прозой, комично именно потому, что герой всю жизнь говорил так, как говорил, и вне противопоставления к чему-либо нелепо приписывать этому особый смысл. Выбор некоего значения данного знака одновременно предполагает отвержение каких-то других значений, т. е. осуществление операции, ранее названной негативным выбором. И. М. Сеченов первым обратил внимание, что для описания процессов переработки информации в нервной системе представление о торможении едва ли не более существенно, чем представление о возбуждении. Роль отвергаемых альтернатив при передаче информации подчеркивали и К. Шеннон, и Р. Карнап — создатели теоретико-информационного подхода, столь популярного ранее в психологии. Согласно их точке зрения, количество переданной информации содержится не в самом сообщении, а определяется снятием неопределенности, имевшейся до поступления информации. Но это и значит, что информация передается не сообщением самим по себе, а отвержением всех других возможностей. Позднее эту же идею реализует Й. Хинтикка в семантике возможных миров, а Т. Виноград — в описании лингвистической коммуникации. Тем не менее большинство психологов — за исключением разве представителей глубинной психологии — совершают типичную ошибку, свойственную человеку (Ф. Бэкон не случайно относил ее к идолам рода): они обращают больше внимания на «положительное и действенное», т. е. на процесс и результат позитивного выбора, чем на «отрицательное и недейственное», т. е. на негативный выбор. Каждый эталон (если воспользоваться введенной ранее графической аналогией, где эталон представлен в виде точечной конфигурации) состоит одновременно как бы из двух типов точек: позитивных и негативных. Такая структура эталона чрезвычайно выгодна для организации процесса сличения. Во-первых, — и это важно само по себе — можно использовать два взаимно дополняющих и проверяющих друг друга типа сличения: сличение по позитиву (как по фигуре) и сличение по негативу (по фону). Во-вторых, в полном соответствии с известной в гносеологии асимметрией подтверждения и опровержения сличение по негативу должно играть более важную роль в принятии решения о результате сличения, чем сличение по позитиву. Прежде всего, потому, что механизм сличения только в одном случае может принять достаточно уверенное решение и то лишь решение о несоответствии стимула эталону: в том случае, когда стимул совпадает с негативно выбранными точками данного эталоне, т. е. с такими точками, которых в этом эталоне заведомо не должно быть. Во всех остальных вариантах исходов оценка соответствия-несоответствия не может претендовать на достоверность. Но, в-третьих (и это самое главное): появляется возможность проверить, допустимо ли приписать данное значение весьма отличающемуся от него знаку, так как сличение по негативу позволяет установить, совпадает или не совпадает поступивший знак (стимул) с негативными точками эталона. Разумеется, на пути понимания процесса сличения остается еще много нерешенных проблем. Тем не менее представление о двух типах сличения — а оно даже может быть реализовано в виде аксиоматического описания работы механизма сличения (1, с. 171—194; 208—212) — дает надежду на объяснение разнородных эмпирических данных. Есть, в частности, все основания полагать, что феномен неосознанного негативного выбора также представляет собой эмпирическое проявление процесса сличения по негативу. 2.4. Теоретические следствия, определяющие направление дальнейших исследований1. Человек (как и любое живое существо) отражает внешний мир и регулирует свою деятельность автоматически. И, вопреки обычному мнению, для осуществления этих функций психика не нужна. Однако интерпретация человеком окружающей действительности и своей собственной деятельности никогда не бывает единственной. Психическая деятельность предназначена для выбора интерпретации результатов автоматической обработки информации и последующей оценки этого выбора. Логика этих процессов и есть как раз логика психической деятельности. Тем самым подразумевается, что все проявления психического (от порогов чувствительности до защитных механизмов личности и возникновения социального) объяснимы именно с этой точки зрения. 2. В соответствии с принципом независимой проверяемости информация должна обрабатываться одновременно во множестве различных познавательных контуров. Достоверность определяется только в случае совпадения результатов, полученных совершенно не зависимыми друг от друга способами. Именно поэтому обработка моторной и сенсорной информации происходит также совершенно не зависимо друг от друга. Такой подход позволяет объединить противоречивые взгляды психологов на связь сенсорного и моторного: не образ порождает реакцию (как продолжает считать большинство психологов), не действие — образ (как полагали, например, Дж. Дьюи, Б. Ф. Скиннер и А. Н. Леонтьев) и даже не их чередование (вопреки утверждению В. П. Зинченко) дает начало рефлексии. Моторное и сенсорное соединены между собой не последовательно, а параллельно. 3. Процесс оценивания достоверности результатов сознательной деятельности не может быть доступен сознанию, он обязательно выходит за пределы данного сознанию эмпирического опыта. В противном случае полученные в итоге оценки зависимы от сознания и не могут претендовать на объективность. Следовательно, логика этих оценок сознанию неведома, сами оценки воспринимаются сознанием как поступающие откуда-то извне и не выразимые на языке сознания. Кажется оправданной аналогия между трансцендентальностью оценки (т. е. ее выходом за пределы сознания) и тем субъективным переживанием, которое обозначается термином «эмоция». Во всяком случае, хорошо известно, сколь безнадежны попытки точно передать словами свое эмоциональное состояние. 4. Ограничения познавательных возможностей человека, которые можно измерить в эксперименте, связаны в первую очередь с работой механизма сличения. Так, платой за точность отражения или действия является неопределенность в оценке точности данного отражения или данного действия. Объемные ограничения (типа объема памяти или внимания), в свою очередь, являются неизбежным следствием негативного выбора, а не предопределены какими-то структурными ограничениями. 3. Список основных публикаций автора по теме диссертации1. Опыт теоретической психологии (в жанре научной революции). СПб., 1993, 325 с. ...и далее еще 38 наименований. Неожиданное сознаниеНа мой взгляд, ключ к распутыванию большинства головоломок — решение проблемы сознания. Обычно к функции сознания относят задачи отражения реальности и регуляции деятельности. Беда этой позиции в том, что на самом деле для выполнения этих задач сознание вроде бы совсем и не нужно. И отражение, и регуляция происходят автоматически на физиологическом уровне. Физиологическое отражение намного точнее и объемнее, чем сознательное. Физиологическая регуляция деятельности осуществляется на порядок быстрее и безошибочнее, чем регуляция, происходящая под сознательным контролем. Хорошо известно, что вмешательство сознания в эти автоматизмы приводит только к сбою. Тем не менее в сознании, конечно же, отражается реальность, и оно, безусловно, способно управлять поведением. Более того, именно благодаря сознанию мы способны рассуждать о никак не представленных в непосредственном физиологическом отражении процессах зарождения Вселенной или свойствах микромира, только благодаря сознанию мы способны исследовать свойства химических элементов и даже законы, управляющие бессознательным, лишь с помощью сознания люди изменяют мир, в котором живут, и приспосабливают к этому миру свое поведение. Как сознанию это удается? Что именно оно при этом делает? Все остальные вечные проблемы и вытекающие из них конкретные ужастики перестанут выглядеть столь уж неразрешимыми, как только удастся разгадать эту тайну. Предложенный подход к проблеме сознания был назван мной психологикой, дабы подчеркнуть следование естественнонаучному канону. Более подробно и доказательно он изложен в других моих работах. Здесь я ограничусь поневоле кратким пересказом без описания экспериментальных данных, лежащих в основании концепции. Главная задача — показать, как предлагаемый взгляд на сознание помогает справиться с вечными проблемами. Логическая идеализация. Прежде всего, в соответствии с каноном вводится неизбежная для естественной науки идеализация. Человек идеально приспособлен к познанию, его мозг (и даже организм в целом) тоже рассматривается как идеальный, т. е. не имеющий никаких ограничений ни на объем принимаемой информации, ни на скорость ее переработки, ни на время хранения. Отсюда, в частности, следует: любое реально обнаруживаемое ограничение познавательных возможностей человека должно объясняться только самой логикой процесса познания, а не физиологическими, анатомическими, социологическими и прочими причинами. Как всякая идеализация, данная идеализация заведомо неверна, поскольку, конечно же, на мозг и организм человека наложены определенные ограничения. В конце концов у человека только два глаза и две руки, известна скорость прохождения сигнала по нервной ткани, которая весьма далека от бесконечности, человек не может летать, видеть радиоактивное излучение и т. д. Любая идеализация хороша тем, что позволяет рассматривать реальный процесс в «чистом» виде, не замутненном несущественными обстоятельствами. В данном случае она обозначает лишь признание того, что ограничения познавательной деятельности, с которыми мы сталкиваемся в психологических экспериментах, не имеют никакого отношения к анатомии или физиологии человека. Когда мы говорим о психических процессах, любыми существующими в реальности физиологическими ограничениями можно заведомо пренебречь. Как писал П. Я. Гальперин, «в психических отражениях открывается даже меньше того, что есть в их основе, в физиологических отражениях ситуации» [2]. Г. Гейне выразил это еще образнее: «Часто тело догадывается о большем, чем душа, и человек спиною рассчитывает дальше, чем головой» [3]. Информационные возможности психики заведомо слабее, чем возможности обработки информации мозгом. Гносеологическая редукция. Какой-либо редукционистский принцип в любом естественнонаучном построении неизбежен. Психологика принимает следующий принцип: логика процесса познания необходима и достаточна для объяснения всех явлений и механизмов психической жизни человека. О причинах выбора этого принципа уже было сказано в автореферате. Психологика действительно все мысли, чувства и поведение человека рассматривает как предопределенные процессом познания. В теории, таким образом, все, что человек делает, должно восприниматься как обусловленное только стоящими перед ним когнитивными задачами. Мотивы, эмоции, социальные отношения, психические отклонения — все это должно объясняться как следствие познавательной деятельности. Психологика тем самым позиционирует себя как последовательный радикальный когнитивизм и вслед за своей прародительницей — когнитивной психологией — предлагает рассматривать человека исключительно как существо познающее. Эту позицию я последовательно проводил во всех своих предшествующих работах. Оппоненты, однако, недоумевали: неужели из логики познания можно вывести все богатство человеческих переживаний, все заведомо неразумные людские поступки? Жизнь самоценна, и человек, прежде всего, стремится жить, а не познавать. Неужели и эмоции — порождение познавательного процесса? Ты интеллектуализируешь психику, заявляли они. Эта критическая нота особенно часто звучала после выхода в свет моего эссе по психологии искусства [4]. Ужель наслаждение искусством (как и любовь, гнев, счастье и пр.) — всего лишь «жар холодных чисел»? А. Ш. Тхостов отражает похожую точку зрения, когда пишет: «Психология вообще гипертрофирует рациональное познание (в чистом виде реально наблюдаемое лишь в специальных лабораторных условиях или в специфической научной деятельности), не замечая того, что в обыденной жизни человек есть существо далеко не рациональное. Противоречивость, совмещение противоположностей, логика желания представляют собой ошибки, которые следует не столько признавать как неизбежное несовершенство или игнорировать, сколько сделать предметом собственно психологического исследования, ибо ошибка говорит о сути человека часто больше, чем любое формально правильное исполнение» [5]. Действительно, все сказанное верно, за исключением разве того, что рациональное познание не наблюдается ни в лабораторных условиях (где как раз самое интересное — ошибки), ни тем более в научной деятельности (о чем уже много говорилось). Однако с естественнонаучной точки зрения логическое описание (которое, собственно, и является итогом рационального познания) кажущегося иррациональным поведения возможно. Следовательно, психика (включая все, в том числе и эмоции, и фантазии, и иррациональные желания) в теории должна быть представлена как логическая система. В противном случае следует признать, что психология как естественная наука существовать не может. Не случайно Тхостов говорит о «логике желания». А его призыв изучать ошибки, по существу, означает, что ошибки поддаются логическому анализу, ведь только тогда они позволяют прогнозировать поведение. Другое дело, что подлинная рациональная логика психического нами непосредственно не осознается: субъективно переживается (в том числе эмоционально) только неожиданный для сознания (и поэтому кажущийся алогичным) результат ее неведомой работы. Догадка. Если мозг (или даже организм в целом) рассматривать как идеальное познающее устройство, то какую функцию в познавательном процессе выполняет сознание? Я предположил, что среди механизмов мозга существует один, названный мной протосознанием, который по заданному алгоритму (в том числе используя алгоритм случайного выбора) принимает решение о поведении в ситуациях, когда у него нет критериев для выбора одной из нескольких равновероятных альтернатив. (То, что сознание активно востребовано именно в ситуации неопределенности, подчеркивают многие выдающиеся психологи — вспомните позиции У. Джеймса и А. Г. Асмолова.) А далее объясняет принятое решение неслучайными причинами, иначе говоря, приписывает сделанному случайному выбору статус закономерного. Этот механизм тем самым строит случайную догадку о том, какова реальность, как бы пытаясь угадать правила игры, по которым с ним «играет» природа. В дальнейшем, попадая в новые ситуации неопределенности, он будет действовать уже не случайным образом, а в соответствии с этой своей догадкой, до тех пор, пока не столкнется с ее опровержением. Если догадка не верна, то все равно принятые на ее основании решения ничем не хуже, чем решения, основанные на случайном выборе. Если же догадка верна, то он будет знать о мире то, о чем на самом деле не имел никакой информации. Напомню, что именно путем угадывания законов (правил игры, по которым играет природа) развивается естественная наука. При случайном угадывании, однако, трудно рассчитывать, что догадка вдруг окажется истинной, т. е. полностью соответствующей реальному положению дел. В самом лучшем случае она может быть не совсем точной, может быть правильной только в какой-то своей части. Тут в дело и вступает механизм сознания. Задача сознания как механизма состоит в том, чтобы, прежде всего, логически оправдать и так скорректировать догадку, чтобы согласовать ее с опытом. Тем самым механизм сознания защищает свои догадки (гипотезы) от весьма вероятного опровержения. Механизм сознания — это специальный механизм мозга, работающий как логический компьютер и обеспечивающий создание защитного пояса проверяемых гипотез (защитный пояс — термин И. Лакатоса, введенный для обозначения процесса зашиты научных гипотез от опровержения). Следует особо отметить, что осознается не сама работа механизма сознания, а только часть результатов этой работы. При этом (что отчасти ассоциируется с позицией глубинной психологии) механизм сознания принимает специальное решение, что именно в данный момент следует осознавать (позитивный выбор, позитивное осознание), а что заведомо осознавать не следует (негативный выбор, негативное осознание). Вслед за гештальтистами признается, что однажды сделанный выбор имеет тенденцию к последействию. Но, в отличие от них, принимается, что последей-ствует не только позитивный, но и негативный выбор. Механизм, предназначенный проверять (но, прежде всего, подтверждать) сделанные догадки и корректировать их в случае рассогласования с опытом, способен пользоваться практически всей доступной мозгу информацией, он также способен в целях проверки собственных догадок управлять поведением. Сознанию тем самым отводится роль организатора опытной (и логической) проверки случайно принятых решений (гипотез). Ориентация на связь сознания с проверочной деятельностью, в свою очередь, сближает подход психологики с позицией тех физиологов, которые искали природу психических процессов не в механизмах прямого воздействия, а в механизмах обратной связи. (Но физиологи, разумеется, никогда не трактовали сознание как защитный механизм.) Человек осознает только то, что порождается механизмом сознания (хотя не все порождаемое осознается), а сам этот механизм, согласно обсуждаемому предположению, случайные явления всегда трактует как закономерные. Следовательно, человек в принципе не может осознавать случайные явления как случайные — он с неизбежностью будет приписывать им закономерные тенденции. Это явление действительно обнаруживается в самой разнообразной эмпирике и подтверждается в многочисленных экспериментах. Человеку чуждо понятие случайности, заявляют социальные психологи. Вообще хорошо известно, что человек занимается самоподтверждением собственных гипотез. Даже в очень толстых учебниках по психологии можно иногда встретить малюсенькие разделы, посвященные этому явлению [6]. Практики констатируют такую же тенденцию и называют ее принципом Мейхенбаума, теоремой Томаса и пр. Приведу пример самоподтверждающей стратегии, в свое время весьма поразивший Л. Фестингера и, думаю, повлиявший на создание им теории когнитивного диссонанса. В начале 1950-х гг. одна женщина, живущая на Среднем Западе в США, заявила, что получает сообщения из космоса. Вокруг нее образовалась группа горячих приверженцев. Как-то сентябрьским вечером ей пришло сообщение с планеты Кларион, которое гласило, что 21 декабря человеческая цивилизация будет уничтожена опустошительным наводнением. Однако саму эту женщину и ее последователей спасет летающая тарелка, которая прилетит с Клариона. Преданная ей группа людей пылко верила в ее пророчества: они бросили работу, раздали деньги и все свое имущество (кому нужны деньги на планете Кларион?), отдалились от друзей. В это движение под видом его сторонников внедрились психологи (в их числе был и Л. Фестингер), которые хотели увидеть, что произойдет, когда обнаружится, что пророчество не сбылось. Утром 20 декабря было получено послание с Клариона: всех участников группы заберут точно в полночь, но на их одежде не должно быть металла. Когда полночь прошла, а космический корабль не прибыл, группой овладело отчаяние. К четырем часам утра все сидели в ошеломленном молчании. Казалось бы, гипотеза окончательно опровергнута? Ну нет! Ведь всегда можно защитить гипотезу от опровержения путем введения дополнительного допущения. В данном случае так и случилось. В 4.45 пришло очередное сообщение с Клариона: больше нет необходимости в приземлении летающих тарелок. Оказывается, эти замечательные люди, просидев вместе всю ночь, излучали столько света, что спасли мир от разрушения. Услышав такие новости, вся группа возликовала. Подтвердилось, что все, что они делали, оказалось правильным. Еще раз сформулирую главную идею: самоподтверждение собственных гипотез является основной функцией механизма сознания. Итак, что же делает сознание? Оно все объясняет. В тех случаях, когда человек (организм, мозг) не обладает достаточной информацией, сознание догадывается о причинах наблюдаемых явлений, в том числе и о том, как устроен мир, и человек, все — даже случайные явления — трактует как следствие некоей закономерности (в других терминах — приписывает явлениям смысл), а затем проверяет справедливость своих догадок, вначале всячески стараясь их подтвердить. И лишь в крайнем случае их отвергает (заменив на более удачную гипотезу). В субъективном мире, т. е. в мире, который мы осознаем, именно благодаря такой работе сознания все кажется логичным, все подлежит объяснению, любые случайности воспринимаются как неизбежная закономерность. Конечно, далеко не всегда наши догадки соответствуют тому, что есть на самом деле. В реальности все происходит не совсем так, как мы ожидаем. Механизм сознания, столкнувшись с рассогласованием между ожидаемым и реальным, немедленно включается в работу и пытается избавиться от возникающих противоречий. Со мной во многом соглашается Е. А. Климов, который, ссылаясь, как он лестно пишет, на мои «вдохновенные строки», так интерпретирует сознание: «Сознание — это средство субъективного отображения неожиданных рассогласований, несвязностей и поиска способов рационального осмысления соответствующей реальности» [7]. Если наши догадки совершенно абсурдны и ничему в мире не соответствуют, то рано или поздно они будут отвергнуты — тогда возникнут новые догадки, дающее иное представление о реальности. Но подобное изменение взглядов — сложный творческий акт и к тому же не всегда необходимый: мир настолько сложен, что ни одна догадка не будет абсолютно точной. Если же мы будем отвергать неточные догадки (а как узнать, какая степень неточности допустима?), все в той или иной мере ошибочные интерпретации, то мы вообще отвергнем все предположения и интерпретации. Следовательно, у нас не будет никакой своей точки зрения, не будет никакого способа видения и понимания мира. Механизм сознания прибегает к отказу от своих догадок в последнюю очередь, а вначале всячески пытается подтвердить сделанные ранее предположения, защитить их от опровержения. Сознание бережно относится к собственным гипотезам и старается, пока это возможно, лишь совершенствовать их, не отвергать, а сохранять. Сознание упрощает действительный мир и далеко не точно его отражает. Оно лишь догадывается о причинах, господствующих в мире. И этим работа механизма сознания весьма напоминает работу ученого-естественника. Сознание, как, кстати, и, естественная наука, даже мыслит в категориях не реального, а иллюзорного, карикатурного мира. Этот мир мы обычно и называем субъективным. Избранный путь угадывания открывает перед сознанием пути познания такой реальности, которая не доступна прямому наблюдению. Так, ученые именно благодаря своему сознанию догадываются о ненаблюдаемых свойствах макро- и микромира, а уже затем проверяют свои догадки в опыте. И на этом своем пути сознание любого человека с неизбежностью вырабатывает представления об истине, добре, красоте, о многих других абстрактных вещах, которые не могут быть заложены генетически и, разумеется, не даны в сенсорных раздражениях. Логическая эквилибристика:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение Постоянного Комитета по Контролю Наркотиков о размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам Источник публикации "Бюллетень... |
К концепции укрепления правопорядка “Избушка-избушка, встань ко мне передом, к... Концептуальные требования к укреплению... |
Медицинский цинизм Повседневный, массовый, диффузный цинизм... У врача — два врага: мертвые да здоровые.... |
Так больше продолжаться не может… или Руководство по выбору реабилитационного центра для зависимого человека В данной книге автор делится своим опытом... |
СПИД в России и в мире Директор Федерального центра СПИД,... |
|
| |||||||||||||||