 |
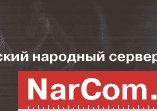 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
В статье содержится обзор развития первых подходов к лечению наркотической зависимости в Советском Союзе. В центре внимания ведомственная борьба между ведущими специалистами социальной гигиены и психогигиены с одной стороны, и клиницистами-психиатрами с другой, что явилось решающим моментом для медицинской специальности, которая получила в Советском Союзе название «наркология». А. Латыпов
Предисловие автораВ данной статье содержится обзор развития первых подходов к лечению наркотической зависимости в Советском Союзе. В центре внимания ? ведомственная борьба между ведущими специалистами социальной гигиены и психогигиены с одной стороны, и клиницистами-психиатрами с другой, что явилось решающим моментом для медицинской специальности, которая получила в Советском Союзе название «наркология». С этой отправной точки я перехожу к рассмотрению завоевывавших популярность и затем ушедших в забытье разных методов лечения, а также концептуализацию понятия наркотической зависимости в научных центрах России, и отслеживаю, как это переносилось (или нет) в другие советские республики. Так как представители клинической психиатрии одержали неоспоримую победу в борьбе со специалистами социальной гигиены и психогигиены, весь арсенал наркологии был подчинен задачам основного направления психиатрии. Хотя в чем заключалось это «основное направление» было не совсем ясно. Когда в 1934 году Александр Рапопорт настаивал на необходимости переработки системы наркологических знаний с точки зрения марксистского подхода, он смог только поставить этот вопрос и признать, что для его решения практически отсутствуют «диалектически освещенные научные данные». Поддерживающее лечение потребителей опиатов, которое было предложено, как самое эффективное, что было подтверждено опубликованными в 1936 году результатами 6-летнего исследования, в конечном счете, оказалось не созвучным с политической и идеологической атмосферой конца 1930-х годов. Поддерживающее лечение рассматривалось как до некоторой степени временное решение в условиях, когда отсутствуют радикальные терапевтические методы для освобождения советского общества от «наркомании». Когда Большой террор развернулся по всему Советскому Союзу, сталинский режим достиг своей цели по устранению наркотической зависимости с поверхности общественной жизни, загнав потребителей опиатов в глубокое подполье и отправив многих из них в тюрьмы и лагеря Гулага. В заключительном разделе я кратко анализирую изменения во взглядах на употребление наркотиков во время Второй мировой войны и описываю последующие преобразования ответных действий советской власти на послевоенную ситуацию с опиатной зависимостью.
------------------------//------------------------
Когда в 1922 году известный психиатр Центральной Азии Леонид Анцыферов представил на первом научном съезде психиатров Туркестана свою работу на тему «Гашишизм в Туркестане», он призывал советское правительство предпринять ряд срочных мер, направленных на искоренение этого «зла», или, если такая цель окажется нереалистичной в краткосрочной перспективе, хотя бы на уменьшение его до минимума. Он считал, что одни только репрессивные меры недостаточны, и что борьба с наркотической зависимостью должна вестись разными способами, а именно просвещением и лечением. По его мнению, возглавлять эту борьбу должны были врачи, так как улучшение здоровья народных масс было наиболее близким к их предназначению (1). Однако Анцыферов не дал конкретных ответов на главные вопросы этой борьбы с наркотической зависимостью: кто должен быть ответственным за лечение зависимости и как эти специалисты должны осуществлять свою деятельность?
Взлет и падение наркодиспансеровЭти вопросы, конечно, были не новы для врачей биомедицинской ориентации, которые имели опыт работы с потребителями опиатов, как в центре России, так и в российском Туркестане. Считалось, что вместе с хроническими алкоголиками и потребителями других наркотиков, пациенты с зависимостью от опиатов нуждались в лечении, и ответственность за их лечение лежала на психиатрах. Русские психиатры начали публиковать свои работы об опиатах и опиатной зависимости задолго до большевистского переворота, во второй половине девятнадцатого века. Некоторые из них, включая знаменитого московского психиатра Сергея Корсакова (1854-1900), обсуждали использование опиума в психиатрии. Они подчеркивали, что опиум может быть очень полезным лекарственным средством, которое может назначаться в форме порошка, таблеток или в клизмах для оказания помощи при многих расстройствах, включая ажитированную депрессию, маниакальное возбуждение, белую горячку и эпилепсию [2, 3]. Другие врачи писали о силе опиума, о том, как он может менять сознание людей, а также о лечении зависимости от морфина и алкоголя при помощи гипноза [4, 5]. Когда в декабре 1902 года после сильного землетрясения в Андижанском районе Российского военного генерал-губернаторства Туркестана в поселок Паласан приехал П. Ортенберг, он имел дело с потребителями кукнара (раствор, приготовлявшийся путем размачивания в воде высушенных и измельченных головок мака). Он лечил их каплями валерианы и убеждением каждого пациента в том что «употреблением кукнара он наносит себе огромный вред» - метод, который он назвал «психиатрическим переубеждением» [6]. Хотя в дореволюционной России и ее колониальных доминионах не было специальных заведений для лечения наркотической зависимости, среди врачей существовало общее согласие, что касается «морфинистов» ? их лечение должно проводится в стационаре, под строгим наблюдением врачей и медицинских сестер. Очень часто такие отделения находились на территории психиатрических больниц. В России использовались три наиболее распространенных метода лечения «морфинизма» в соответствии с рекомендациями немецких авторов конца девятнадцатого столетия. По мнению одного из современных российских психиатров эти методы радикально отличались друг от друга в одном важном аспекте, а именно в решении – проводить отнятие наркотиков (i) немедленно при поступлении в стационар ? по методу доктора Эдварда Левинштейна, (ii) быстро в течение одной-двух недель после поступления в стационар ? по методу доктора Альбрехта Эрленмейера или (iii) медленно в течение одного двух месяцев, в соответствии с методом доктора Рудольфа Буркарта [7]a.
Первая мировая война, большевистская революция и последующая гражданская война в России привели российскую психиатрию в хаос, а существовавшие психиатрические больницы на грань катастрофы. Как писала Ирина Сироткина, в годы гражданской войны уровень смертности в психиатрических больницах достигал сорока процентов. В течение многих месяцев психиатрические учреждения оставались без топлива, продуктов питания и медикаментов, с голодающими пациентами и сотрудниками. Как показала проверка сорока восьми психиатрических больниц в 1920 году, больше половины этих учреждений страдали от большого дефицита продуктов питания. Повсеместно распространялись инфекционные болезни, а в зимнее время некоторые учреждения не могли поддерживать температуру в помещениях выше нуля градусов по Цельсию [8]. Единственным способом поправить эту катастрофическую ситуацию в российской психиатрии для многих психиатров было сотрудничество с новым режимом.
В июне 1918 года на первом Всероссийском съезде медико-санитарных отделов Советов Николай Семашко (1874-1949), будущий народный комиссар здравоохранения, очертил новые принципы советской медицины. В Советском союзе лечение должно было стать бесплатным в рамках унифицированной системы, которая большую роль отводит профилактике посредством санитарного контроля и других социальных мер [9]. Семашко стал главным поборником социальной медицины, и основным покровителем социальной гигиены, которую он определял, как «науку о влиянии экономических и социальных условий на здоровье населения, и о средствах улучшения этого здоровья» [10: С. 255]. Семашко активно поддерживал германо-российские связи в социальном медицине, и советские специалисты в области социальной гигиены обычно открыто признавали свой интеллектуальный долг перед немецкой soziale Medizin [11]. Среди врачей, которые всем сердцем разделяли планы советского Народного комиссариата здравоохранения (Наркомздрава) поставить во главу угла профилактический подход и уделить особое внимание социально-экономическим детерминантам здоровья, был будущий архитектор советской системы охраны психического здоровья Лев Маркович Розенштейн (1884-1934).
Розенштейн начал работать в Наркомздраве вскоре после его организации. Он стал активным сотрудником его нейропсихиатрического отдела (вначале организованного как психиатрическая комиссия), выступая против старой и терапевтически стерильной «психиатрии призрения» и поддерживая «активную психиатрию» [8-12]. Еще в 1914 году Розенштейн начал использовать модель диспансерной помощи для алкоголиков и нервнобольных, открыв амбулаторию в фабричном поселке недалеко от Москвы. Главной в этом подходе была идея социальной работы в сообществе с основной целью профилактики психических заболеваний. Эта идея была провозглашена американским психиатром швейцарского происхождения Адольфом Мейером в 1913 году в Лондоне на Международном медицинском конгрессе, который Розенштейн посетил вместе с группой коллег-соотечественников в завершение их учебной поездки по европейским психиатрическим центрам [8-12].
В опубликованной в Лондоне статье «Цели психиатрической клиники» Адольф Мейер только вкратце упомянул о диспансерах, как внебольничных центрах, которые имеют дело «с теми случаями пациентов, которые не хотят считать себя или не считаются окружающими настолько психически больными, чтобы требовать помещения в психиатрическую больницу или приют». В то же время Мейер заявил, что сущность современной медицины требует как профилактической, так и лечебной работы с тесными связями между социальной работой и деятельностью психиатрических больниц, что является «одним из основных и наиболее важных факторов прогресса в психиатрии». Мейер отмечает: «Социальные службы, как мы их называем в Соединенных Штатах, это организации, которые работают по месту жительства клиентов и выполняют свои задачи по контролю условий вне больниц и активности пациента во взаимоотношениях в семье и в сообществе». «При создании образцовой клиники или больницы важно планировать ее так, чтобы социальная работа, как и исследование индивидуальных случаев… были бы как можно доступнее и эффективнее» [13: СС 363-367]. Через восемнадцать лет в своей статье под названием «Общественное здравоохранение и психогигиена в СССР» Розенштейн подтвердил связь между своей реформаторской деятельностью в Советской России и влиянием на него Мейера. Он заявил следующее: в 1913 году, как делегат Международного медицинского конгресса в Лондоне, я присутствовал при дискуссии между Адольфом Мейером и шотландскими психиатрами на тему оптимальных путей развития психиатрии. История подтвердила правильность взглядов Адольфа Мейера и американской психиатрии» [8: С 230, 14].
Однако в первые годы после революции и в начале 1920 годов многие российские психиатры не принимали идею профилактической психиатрии и психогигиены с таким энтузиазмом, как это делал Розенштейн. В 1919 году, несмотря на недвусмысленный призыв активизировать профилактику психических заболеваний, провозглашенный заместителем народного комиссара здравоохранения в речи на открытии первого Всероссийского невропсихиатрического совещания, делегаты выступали за восстановление психиатрических колоний, а также за приоритетность лечения хронически больных по сравнению с острыми случаями. Некоторые из них считали этот призыв нереалистичным в связи с продолжавшейся в стране гражданской войной, другие не хотели изменений «традиционной» системы и снижения роли психиатрических больниц [15]. Этим психиатрам с традиционным мышлением больничной психиатрии наркомания (наркотическая зависимость) представлялась психическим заболеванием, которое часто необходимо было лечить принудительно в условиях психиатрической больницы или колонии, а наркоманы (наркозависимые) характеризовались, как «морально извращенные» «психо- и невропаты», «дегенераты». Как утверждал в 1921 году автор одной из самых первых советских обзорных статей по «наркомании» М.П. Кутанин, наркотическая зависимость, несомненно, имеет достаточно серьезный прогноз. Он считал, что лечение пациентов с наркотической зависимостью в больнице общего профиля или на дому без строгого контроля и надзора «ни к чему не приведет». Это делало лечение наркомании, по мнению автора, «трудной и в высшей степени неблагодарной задачей» для психиатра [16:СС 36-51].
Однако, как подчеркивает историк Сюзан Гросс Соломон, приверженность социальной медицине и социальной гигиене имела фундаментальное значение и для Наркомздрава. При личной поддержке Народного комиссара здравоохранения формальный процесс институционализации социальной гигиены в советском здравоохранении был запущен в 1922 году открытием первой кафедры социальной гигиены в Москве, введением предмета социальная гигиена в системе высшего образования и созданием нового журнала «Социальная гигиена», посвященного социально-гигиеническим исследованиям. После этого последовала организация в 1923 году Государственного института социальной гигиены [8-11]. За это время после Первого совещания российских невропсихиатров Розенштейн приобрел значительное влияние. Это связано с продвижением его академической карьеры в сочетании с занятием ведущих должностей в Наркомздраве и в крупных большевистских организациях (8). В ноябре 1923 года на Втором Всероссийском совещании по вопросам психиатрии и неврологии Розенштейн и его коллеги (Зиновьев, Прозоров, Страшун и Сысин) смогли привлечь внимание всех участников к новым задачам советской психиатрии, которые включали организацию невропсихиатрических диспансеров в качестве первичных учреждений в советской системе психиатрической помощи. Как предлагали Розенштейн и его соратник П.М.Зиновьев, эти диспансеры должны были стать «органами прикладной психологии», центрами оказания внебольничной помощи и «выявления» психически и нервно больных на ранних стадиях болезни – случаев, когда «болезнь еще не нарушила функциональные возможности организма»; и работать совместно с органами социального обеспечения, научно-исследовательскими институтами, учреждениями санитарного просвещения и консультирования в тесном контакте с массами трудящихся [8, 17:СС 73-74]. Среди тех, кто верил в осуществимость этого амбициозного проекта, был психиатр Александр Шоломович. После большевистской революции он открыто порвал свои связи с традиционной психиатрией и стал поднимать вопрос об организации специализированных наркологических диспансеров по примеру первого опыта учреждения в пяти московских противотуберкулезных диспансерах штатных должностей «врача нарколога» и медицинской сестры, получившей подготовку по оказанию социальной помощи [10, 17, 18].
На следующий год, при поддержке Наркомздрава, и Розенштейн и Шоломович праздновали свои первые победы – первый советский невропсихиатрический диспансер открылся в Московском психоневрологическом институте, и первый наркологический диспансер, или наркодиспансер, был открыт в бывшей Мясницкой больнице [8, 18]. В мае 1925 года учреждение Розенштейна повысило свой статус и стало Московским Государственным невропсихиатрическим диспансером с финансированием из централизованного государственного бюджета и с мандатом методологического руководства процессом организации психиатрической помощи на всей территории России. Розенштейн мог уже контролировать то, что Сироткина, перефразируя Ленина, обозначила как «диспансеризация» всей страны [8]. По словам соратника Розенштейна Зиновьева, это должно было быть достигнуто усилиями психогигиенистов путем «выявления психически больных и людей,…подверженных опасности психического заболевания» [8:С 157, 19]. Что касается Шоломовича, перед ним стояли новые и важные задачи, так как он должен был перестроить наркологию и доказать правильность своих подходов. Доверие к Шоломовичу еще более поднялось, когда народный комиссар здравоохранения вступил в качестве председателя организационного комитета в Московское наркологическое общество (организованное в 1927 году).
В 1926 году, когда был опубликован первый выпуск сборника « Вопросы наркологии» под редакцией Шоломовича, последний начал с самых основ и открыл этот выпуск обсуждением терминологии и ключевых понятий «наркопроблемы». Он сразу же провел связь между социальной гигиеной и наркологией, называя специалистов по зависимости «социалгигиенистами-наркологами». Его критическое отношение к психиатрии стало еще более очевидным, когда он описывал феномен употребления наркотиков. Заявляя, что понятие «наркоз» является фундаментальным для понимания проблемы употребления наркотиков, Шоломович отказывался применять термин «наркомания» в связи со слишком обобщенным толкованием разных форм и моделей этого явления. По его мнению, слово «мания» фактически подразумевает наличие у человека определенной психической «патологии», и при использовании психиатрами в клинических исследованиях термин «наркомания» ассоциируется с образом пациента с психозом, в основе которого ? употребление «ядовитого» вещества. Эти «наркотические яды» включали и алкоголь. Однако для множества людей, которые были «умеренными» потребителями «наркотических ядов» и никогда не попадали в психиатрические больницы с психозами, использование термина «наркомания», который относится к области психиатрии, было недопустимым. Шоломович заявлял, что этих людей нельзя называть «наркоманами», что является сокращенной версией слова наркоманьяк, поэтому необходим другой термин. Таким «термином, применимым в жизни» по отношению к феномену потребления наркотиков, был, по его мнению, термин «наркотизм» [20: СС 5-7].b
Шоломович продолжал свой крестовый поход против традиционной психиатрии в двух других статьях, опубликованных в том же выпуске сборника. В одной из этих статей он утверждал, что «невозможно искоренить последствия [наркотизм] без устранения причин», которые были социально-экономическими по своей природе, и не психиатрическую больницу, а именно наркодиспансер он отстаивал, как наилучший инструмент для профилактики и лечения социальных болезней. Просветительский по своей сути проект наркодиспансер должен « войти в жизнь наркомана», как «заботливый друг» и «авторитетный советник» и «озарить ярким светом, как весь повседневный быт пациента, так и источник его болезни…» [21:СС 45-50].
Он заканчивает публичным заявлением о «разрыве с традиционной психиатрией» и допускает, что это была самая трудная задача, поставленная перед наркосекцией Мосздравотдела – «первой и пока единственной советской командой по борьбе с наркотизмом». Как он объяснял это «отделение» наркологии от психиатрии? Наркоманы с коморбидными психиатрическими расстройствами (душевнобольные наркоманы), по его мнению, представляли во всей популяции незначительный процент, равный 0,002%. Это всего лишь капля «в океане привычного массивного бытового наркотизма», который включал употребление алкоголя и которым, по его мнению, было поражено от 70 до 80 процентов взрослого мужского населения. Психиатр со своей «терапевтической ложкой» никогда не сможет осушить этот океан «социальной патологии» и поэтому, «...обязанная психиатрии своим происхождением, наркология (так мы называем всю широкую область знаний, связанных с проблемой наркотических ядов), выросла, отделилась от материнской почвы и вышла… на новую независимую стезю…» [18:С 72].
Как считал Шоломович, указанный процесс «естественной эволюции» характерен для всей науки.
Время атаки Шоломовича на психиатрию не могло быть более удачным для когорты ведущих советских специалистов социальной гигиены, которые начали борьбу с психиатрами за гегемонию в области лечения и научных исследований бытового алкоголизма. 11 сентября 1926 года, в связи с публикациями в прессе о явном повышении уровня алкоголизма, Совет Народных Комиссаров (Совнарком) издал декрет о срочных мерах борьбы с алкоголизмом и поручил Наркомздраву «расширить систематические исследования» по проблеме алкоголизма и профилактической борьбе с ним. В феврале 1927 года Наркомздрав, возглавляемый Семашко, издал циркуляр, возлагающий ответственность за систематические исследования алкоголизма, как социальной болезни, на Государственный институт социальной гигиены [10, 22-24]. Так что когда главный защитник и организатор наркодиспансеров провозгласил независимость «дочери-наркологии» от ее «матери-психиатрии» и заключение союза между наркологами и специалистами социальной гигиены, не удивительно, что наркодиспансер стал рассматриваться многими, как один из оплотов социальной гигиены.
Какими были ключевые принципы уникального подхода наркодиспансеров к наркотизму? Во-первых, основной упор на причинах, а не на последствиях ясно показывал, что профилактике отдается преимущество перед лечением. По мнению Шоломовича, если вести борьбу с характерными для капитализма бедностью, нарушениями прав человека и экономической эксплуатацией, упование людей на «наркотики» и употребление разнообразных «наркотических ядов» для достижения гармонии сменятся «физиологически культурным наркозом». При новой власти большевиков, советские граждане должны быть «опьянены культурой, наукой, красотой и гармонией жизни и труда» [21:СС 45-47]. Во-вторых, перенеся акцент с «мании» на «изм», наркологи подразумевали также, что независимо от того, какой вид лечения они применяют, он отличается от длительного стационарного лечения традиционной психиатрии. Когда Шоломович начал публиковать свои статьи на тему «борьбы с наркотизмом» и докладывать о деятельности наркодиспансеров, одной из его главных задач было сосредоточиться на том, как указанные выше принципы воплощались в конкретные результаты в «реальной жизни».
Пропаганда, направленная против «дурманов» (в это понятие включались все разновидности «ядов», включая алкоголь), считалась одним из главных видов деятельности Наркосекции Мосздравотдела и обычно включала лекции, беседы, собрания, а также реальные и инсценированные судебные процессы над «наркоманами», подвергающие их общественному осуждению. По данным, приводимым Шоломовичем, специалисты Наркосекции Мосздравотдела к концу первого квартала 1925 года прочитали 805 лекций, охватив около 70000 рабочих и студентов [18]. Хотя количество новых пациентов (включались не только потребители алкоголя и других ядов, но и члены их семей с неврозами, которые у них развивались в результате наличия «наркопроблемы» в семье), осмотренных в Москве между 1924 и 1926 годами, было не очень большим и составляло 16500 человек, Шоломович с гордостью заявлял, что этими клиентами занимались всего 2 наркодиспансера и 6 наркопунктов [25].
Однако, что касается лечения, он должен быть признать, что эта «проблема» была далека от разрешения, так как методы лечения только начинали разрабатываться [18]. Одним из таких новых «активных» методов лечения, внедренных московскими наркологами, было подкожное введение кислорода, или так называемая «О-терапия». Хотя первые опыты с подкожными инъекциями кислорода проводились еще в 1770-х годах, впервые это было использовано в терапевтических целях в 1799 году Томасом Беддо в Пневматическом институте в Бристоле (Великобритания). В1910-х и в 1920-х годах, в результате проведенных в Европе и Северной Америке, исследований, имевших целью лучше понять эффективность применения кислорода и выявление эффективного пути введения кислорода пациенту, использование подкожных инъекций кислорода по широкому ряду показаний значительно возросло [26]. В России Шоломович предлагал применение «О-терапии» подкожными инъекциями в основном для лечения «морфинизма», хотя он отмечал, что ее также получали некоторые «кокаинисты» и алкоголики. По мнению Шоломовича, подкожное введение кислорода предложено для лечения «морфинизма» в связи с наличием данных о том, что оно вызывает равнозначную степень эйфории [18].
Представляется вероятным, что, как и в случае с «моделью» невропсихиатрического диспансера Розенштейна, московский наркодиспансер получил оборудование для подкожного введения кислорода из-за границы довольно поздно, и поэтому имелся только небольшой опыт применения такого лечения. Так, из около 585 «морфинистов», осмотренных в Наркосекции Мосздравотдела за 1924 год и первые девять месяцев 1925 года (5-7 процентов из общего количества 8370 пациентов), только 21 пациент, по данным отчетов, получил О-терапию подкожными инъекциями. Тем не менее, Шоломович утверждал, что все эти пациенты «были в восторге» от оксигенотерапии, и от них были очень позитивные отзывы. Предполагалось, что О-терапия значительно облегчила для всех морфинистов, получавших этот вид лечения, существенное снижение дневной дозы морфина. Многие пациенты перешли с дозы 1,5 до 0,05 (единицы не уточнены) чистого морфина без развития абстинентных симптомов [18] d.
Несмотря на первоначальный успех этого нового метода лечения, сам по себе он оказался недостаточным для того, чтобы «полностью искоренить» морфинизм; как отметил один из пациентов в своем письме в адрес наркодиспансера, «… для окончательного излечения ослабленной воли морфиниста, необходимо что-то еще». Это – вырывание пациента из его социальной среды и помещение его в стационар на период от двух до четырех недель, что должно привести к окончательному выздоровлению, как считал Шоломович [18:С 77]. Однако, учитывая отсутствие таких стационарных отделений в большинстве наркодиспансеров и в наркопунктах, единственная вещь, которую наркологи могли сделать для потребителей морфина и кокаина, это ограничить свое вмешательство рекомендациями [25]. Разочарование среди клиентов также означало, что многие из них вынуждены были иметь дело с «традиционными» психиатрическими учреждениями.e Несмотря на то, что сам Шоломович информировал, что только от 7 до 10 процентов его пациентов направлялись в психиатрические больницы, и что даже еще меньше – от 1 до 2 процентов больных были «психопатами», которые, по-видимому, подлежали лечению в психиатрических клиниках, другие психиатры, которые поддерживали идею диспансера и его «аппарата социальной помощи», были менее оптимистичны. Например, в Ленинграде профессор Раиса Яковлевна Голант сообщала, что из 189 пациентов с опиатной зависимостью, лечившихся в диспансере, 22 процента мужчин и 12 процентов женщин были «несомненно» психопатами. Другой пример: А.Н. Кондратченко, который в амбулаторных условиях наблюдал 162 пациентов с опиатной зависимостью в 1927-1929 годах в Ташкенте и признавал влияние Шоломовича на написание его статьи, также охарактеризовал 48 «опиоманов» из своей выборки как «психопатов» [18, 27, 28]. К 1928 году психиатры начали информировать о возрастающем количестве поступавших в психиатрические учреждения резидентного типа пациентов после лечения (безуспешного) в наркодиспансерах [10]. Действительно, появился оттенок иронии в отношении к эффективности диспансеров даже среди неспециалистов, и обыкновенные люди пели песни о диспансере, который потерпел поражение в лечении алкоголиков [29].
Однако для того, чтобы иметь более полное представление о жизнеспособности проекта наркодиспансер, проблемы, связанные лечением «наркотистов» (как Шоломович часто называл потребителей алкоголя и наркотиков без «мании»), также должны рассматриваться в контексте социально-гигиенических исследований алкоголизма, которые проявились после 1926 года.
Опросник, разработанный директором Государственного института социальной гигиены А.В. Мольковым, касался, в основном, «экзогенных» (образа жизни) факторов, способствующих развитию бытового алкоголизма. Он широко тиражировался для разных исследований на местах, всего было охвачено не менее 40000 респондентов [10, 24]. Как подчеркивает Соломон, послереволюционная советская культура демонстрировала поразительное пристрастие к «науке», опросники же создавали «атмосферу науки». Для специалистов социальной гигиены использование таких инструментов помогало усиливать их притязания на легитимность [11:С 187]. Однако это не означает, что эти опросники не имели методологических проблем, как и в случае инструмента, разработанного Мольковым, имелась выраженная тенденция к демонстрации значимости в потреблении алкоголя таких факторов, как образ жизни, привычки, образование и культура. Эти опросники были предназначены для сбора данных от «всех сознательных граждан», для того чтобы сделать выводы о путях борьбы с алкоголизмом на переднем крае этой борьбы. При использовании в Узбекистане местными специалистами социальной гигиены и студентами опросники были усовершенствованы и включали названия местных токсических веществ, такие как «буза», «мусаляс» и даже «кумыс», производимый из верблюжьего молока. Они также включали название наркотиков, таких как кокаин, доказывая то, что его употребление жителями Ташкента не было тайной в 1920-х годах; это подтверждает свидетельства других печатных изданий того времени.
Какие результаты могли дать опросники, использовавшиеся сотрудниками и единомышленниками Молькова? Основываясь на своих исследовательских инструментах, специалисты социальной гигиены могли получить социальный портрет страдающего бытовым алкоголизмом человека с разным образовательным и профессиональным уровнем и с разным уровнем заработной платы. Он или она принадлежали к разным возрастным группам, употребляли разное количество алкоголя в связи с разными обстоятельствами и разными причинами (например, по религиозным праздникам, на свадьбах или похоронах, для «лечения» и т.п.), либо без всяких причин начинали употреблять алкоголь в разном возрасте, имея свои предпочитаемые напитки и тратя разное количество денег в месяц на приобретения алкоголя. Можно было также оценить жилищные условия пьющего человека, качество его семейной жизни и режим питания. Самым важным явилось то, что имелась возможность подтверждать (или отвергать) наличие разнообразных связей без достаточных доказательств существования причинных взаимоотношений. Соломон приводит данные, что исследователи в области социальной гигиены были часто склонны сглаживать политическую остроту, свойственную их работе. По понятным причинам они предпочитали давать описательную картину с акцентом на нескольких факторах социальной среды потребителя алкоголя, «а не на среде в целом», уходя от резкой «критики советского общества, подразумеваемой в их анализе». И все же картина, вырисовывающаяся из социально-гигиенических исследований, была мрачной, и следующий шаг вперед мог показать необходимость серьезных структурных изменений в обществе [10: СС 259-268].
С изменением политической ситуации в Советском Союзе в 1920-х годах, и в связи с социально-гигиеническими исследованиями по различным проблемам, относящимся к здоровью и болезни и выявлявшим тревожную ситуацию, отрасль социальной гигиены к 1930 году внезапно свернула свою работу. В январе 1930 года главный покровитель этой отрасли Народный комиссар здравоохранения Семашко был уволен со своей должности. Его заменил М.Ф. Владимирский, который имел мало опыта работы в организации здравоохранения. Государственный институт социальной гигиены был трансформирован в новую организацию, которая больше занималась административными вопросами, чем исследованиями по организации здравоохранения. Заведующий отделом исследований алкоголизма этого института, ярый критик государственной алкогольной политики Е.И. Дейчман, был исключен из правления Общества борьбы с алкоголизмом, в это же время был формально упразднен Всесоюзный Совет Противоалкогольных Обществ. Было объявлено, что социализм и социалистический образ жизни сами по себе постепенно «уничтожат пьянство». В сентябре 1930 года Сталин дал указание Молотову «увеличить… производство водки» и «стремиться открыто и немедленно к максимальному увеличению выпуска продукции», для того чтобы больше средств могло быть получено для вооруженных сил [11, 24, 30, 31].
Однако, снижение престижа социально-гигиенических исследований на тему потреблению алкоголя, начавшееся вскоре после опубликования первых результатов, потеря отраслью занимаемого положения, также как и последующий упадок наркодиспансеров нельзя полностью объяснить, не упомянув противоборство между «гигиенистами» и клиницистами, сторонниками основного направления психиатрии. Конечно, претензии специалистов социальной гигиены на гегемонию в сфере лечения алкоголизма не могли иметь успеха без преодоления оппозиции профессиональных групп, интересы которых были непосредственно затронуты. Не имея никакого опыта в лечении хронического алкоголизма и «дипсомании», что уже ставило их в невыгодное положение, специалисты социальной гигиены должны были предложить эффективную политику и терапевтический подход к бытовому пьянству. Однако, их опора на «культурно-воспитательную работу» и пропаганда умеренного потребления алкоголя выглядели как долговременная стратегия, а не быстрое решение проблем в стране, которая переживала быстрые (и часто насильственные) измерения к концу 1920-х годов [11: С 188]. Более того, часто руководимые «социал-гигиенистами-нарколагами» наркодиспансеры не давали таких результатов, какие обещал Шоломович. В результате победу легко одержали психиатры-клиницисты, которые через десять лет восстановили свою монополию в лечении алкоголизма и наркотической зависимости.
Получив смертельный удар, «локомотивы» движения социальной наркологии – московские наркодиспансеры были лишены своего независимого статуса и вынуждены были «воссоединиться» со своей «матерью-психиатрией». В 1932 году они уже не назывались «наркодиспансерами», а были объединены с невропсихиатрическими диспансерами [32]. Само по себе исчезновение наркодиспансеров мало повлияло на реальную динамику потребления наркотиков в стране и на отсутствие интереса властей к мониторингу наркотической ситуации.
Однако это не конец истории, поскольку к тому времени, когда московские наркодиспасеры были объединены с невропсихиатрическими диспансерами, последние тоже пострадали от «большого перелома». Розенштейн и его товарищи, сторонники психогигиены, были обвинены в стремлении «захватить контроль над всем здравоохранением» и в «неоправданной диспансеризации» (читай «расширенное понимание болезни») «здоровых» граждан. Когда психогигиенические исследования выявили психические или нервные заболевания у 76 процентов учителей и 71,8 процента медицинских работников, или как это было в случае Ташкентской психиатрической больницы – в 71,6 процента медицинских сестер и санитаров, терпение властей лопнуло. В 1931 году российское правительство опубликовало решение «о ситуации в психиатрических больницах и положения дел в психиатрии в республике», запрещавшее открытие новых учреждений профилактической психиатрии в столице. Институту Розенштейна было предписано направить свою научную деятельность на оказание психиатрической помощи в республике, включая такие практические аспекты, как трудотерапия. В 1932 году Розенштейн был вынужден публично отречься от собственных взглядов, «отмежевавшись от всего чуждого». Он умер через два года естественной смертью, но его жена и его дочь в 1937 году были арестованы НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел – политическая и секретная полиция Советского Союза). Так как в начале 1930 годов психогигиеническое движение пошло на спад, функции невропсихиатрических диспансеров были сведены к «сбору медицинской статистики, амбулаторному приему, постановке на учет и направлению в психиатрические больницы» [12, 15, 33-36]. Они стали инструментами основного направления клинической психиатрии, которая считала бытовой алкоголизм и потребление наркотиков отдельными психическими заболеваниями, поражающими индивида, а не общество.
Опиатная зависимость в ведении психиатров-клиницистовВ то время, когда Шоломович начинал разрабатывать практическую и теоретическую базы наркологии, а также ее пути борьбы с «наркотизмом» вне рамок психиатрии, многие другие психиатры открыто высказывали противоположные взгляды и были полны решимости следовать другим подходам к проблеме потребления наркотиков. Так, еще до того, как вышел первый выпуск сборника «Вопросы наркологии», Л. Прозоров в официальной публикации Наркомздрава представил свой вариант «борьбы с наркотизмом». Он подчеркивал необходимость принудительного лечения «привычных наркоманов» и создания для лечения «кокаинистов» лечебных колоний, возглавляемых психиатрами [37].
Годом позже, в 1925 году, в Москве была издана одна из наиболее часто цитируемых работ о «конституции» наркоманов и о роли эндогенных факторов в развитии «генуинной» наркоманииf. Работа была написана известным московским психиатром Марком Серейским, который получил медицинское образование в начале 1910 годов в Мюнхене и некоторое время до возвращения в Россию работал в клинике Эмиля Крепелина. Основываясь на данных, собранных в психиатрической клинике Первого московского государственного университета (которая являлась бастионом клинической психиатрии и возглавлялась очень влиятельным профессором психиатрии Петром Ганнушкиным), Серейский утверждал, что некоторые люди имеют врожденную предрасположенность к злоупотреблению наркотиками. Особенно это относилось к зависимости от морфина, при которой такой важный социальный фактор, как доступ к морфину, играл второстепенную роль. «У всех врачей имеется возможность достать морфий, - писал он, – однако не все врачи являются морфинистами» [38: С. 24]. Для того чтобы подкрепить этот важный вывод клиническими доказательствами, он изучал конституцию наркоманов (из которых 76 процентов употребляли морфин), анализируя их личность и наследственность. Согласно его данным, у 96 процентов всех пациентов имелись те или иные «отягчающие факторы» наследственности. К тому же, приблизительно у 75 процентов обследуемых пациентов имелись «явные патологические девиации» психики – преморбидная или «пренаркотическая» личность. Однако, по мнению Серейского, этот процент должен быть гораздо больше, поскольку те врачи, которые заполняли некоторые давние истории болезни, раньше не уделяли столько внимания личности, как это делал он. Таким образом, используя психиатрический подход, Серейский сделал вывод, что первая доза морфина служила только для «замыкания цепи» и приводила, в соответствии с учением Павлова, к развитию «наркоманного» рефлекса. Основываясь на этих предпосылках, он поддержал взгляды дореволюционных психиатров, утверждавших, что прогноз зависит непосредственно от наследственности, и считавших, что лечение наркомании обычно не оправдывает ожиданий, что выдвигает на первое место профилактику [7, 38].
Когда представители основного направления психиатрии ввязались в борьбу со специалистами социальной гигиены за право заниматься привычным пьянством, их мишенью стало и нововведение Шоломовича, касающееся необходимости дифференцировать понятия «наркотизм» и «наркомания». В 1928 году сотрудник психиатрической клиники в Ленинграде Горовой-Шалтан утверждал, что его «материал» (42 морфиниста, лечившихся в 1919-1922 годах) подтверждает вывод, что морфинизм вызывается «эндогенными» факторами. Следующим сделанным им шагом было новое определение «морфинизма», как «конституционального психоневроза, осложненного хронической интоксикацией». Хотя его определение едва ли когда-нибудь принималось в его первоначальной форме, и слово «конституциональный» сразу же вызвало сомнения у редактора, он стремился восстановить полномочия психиатров в отношении привычного злоупотребления наркотиками, проводя аналогии с появившейся ранее работой Марка Серейского, который завоевывал все больше уважения и влияния. По мнению Горового-Шалтана, такое определение морфинизма объясняло также хорошо известные трудности лечения этого состояния [39: С. 49-51].
Горовой-Шалтан, как вероятно все другие психиатры, которые писали об опиатной зависимости в России в 1920-х годах и обычно сообщали о высоком проценте «лекарственных наркоманов» в выборках пациентов, также подчеркивал, что важнейшим средством профилактики зависимости от морфина была сама медицинская профессия, и призывал к особой осторожности при выписывании и назначении морфина пациентам. Кроме этого, повышение информированности населения о наркотиках посредством «просветительской» деятельности и брошюр рассматривалось многими психиатрами как уместный метод профилактики. Хотя это был один из моментов, по которым они соглашались с гигиенистами, однако вопрос о содержании предоставляемой информации становился одним из наиболее важных. В середине 1920-х годов, когда социально-гигиеническое движение было в расцвете, взгляды Серейского и его коллег-единомышленников широко одобрялись и распространялись в сериях «популярных дискуссий о здоровье и болезнях», что подтверждает в своей книге доктор Е.Б. Блюменау.
Опубликованная в Ленинграде в том же году, что и статья Серейского, книга Блюменау касалась последствий и вреда употребления «дурманов» и содержала предназначенные для широкой публики обличительные характеристики наркотиков и потребителей наркотиков. В общем введении, касающемся проблемы «дурманов», Блюменау утверждал, что потребителей наркотиков нельзя считать «психически здоровыми», а «дурманы» характеризовались как могущественные злые духи, порабощающие вкусивших запретный плод. Говоря конкретно об опиуме и морфине, автор «повысил» их до статуса «злых духов человечества». Вслед за Серейским он писал: «конечно, было бы печально, если бы все те, кому когда-либо назначался морфин, становились морфинистами…». Однако, к счастью, «не каждый человек становится морфинистом», подчеркивал Блюменау, поскольку для этого у человека должна быть предрасположенность, а если нормальному человеку назначить морфий в медицинских целях, это приведет только к неприятным ощущениям, таким как тошнота и сонливость, но через некоторое время они «все исчезнут», и «этим дело закончится» [40: С. 40-51]. Отражая позицию основного направления психиатрии, Блюменау завершает свою «популярную дискуссию» об одурманивании опием и морфием утверждением, что каждый морфинист – «психически ненормальный человек», требующий «длительного квалифицированного лечения в специализированных учреждениях» [40: С. 61].
Однако, хотя представители основного направления психиатрии считали, что лечение опиатной зависимости это нелегкая и неприятная задача, по-прежнему оставалось много требующих решения вопросов, важных для оказания помощи при наркомании. Где и как лечить наркоманию? Нужно ли лечить наркоманов в принудительном порядке? Учитывая, что это психическое заболевание, может ли советский наркоман пользоваться теми же правами, что и другие, «нормальные» граждане? Как поступать с женщинами, страдающими наркоманией, особенно при беременности, когда плод реагирует на отмену наркотиков, как «законченный» «опиоман»? Есть ли необходимость лишать пациента опиатов для того, чтобы достичь цели полного воздержания? Или, возможно, сценарий «опиум для народа» может по-прежнему использоваться в советском обществе, в котором, как писал в 1934 году Александр Матвеевич Рапопорт (редактор «Проблем наркологии» и автор редакционной статьи «О главных задачах советской наркологии»), господствовала идеология марксизма, а «освоение и переработка» научного наследия наркологии были невозможными без «строго марксистского подхода»? [41].
Как указывалось выше, концептуализация лечения опиатной зависимости в первые годы существования Советского Союза была тесно связана с более широкой дискуссией об организации помощи при наркомании и наркотизме, в который также включались хронический алкоголизм и привычное пьянство. Уже в 1921 году Кутанин заявлял, что всех наркоманов нужно лечить в принудительном порядке, так как их состояние очень трудно поддается коррекции, и при добровольном лечении это составляет большую проблему. Еще более важно, что они также считались психически больными, опасными для общества [16]. Три года спустя, представляя официальные взгляды Наркомздрава (что, однако, было опубликовано в форме дискуссионной статьи с предложением местным властям и отдельным товарищам присылать свои отзывы о проблеме борьбы с наркотизмом), Прозоров предлагал создать в больших городах специальные учреждения в качестве регистрирующих органов и фильтров для отделения «случайных» наркоманов от «привычных» наркоманов с тем, чтобы последних направлять на принудительное лечение. Хотя его обоснование необходимости принудительного лечения основывались на примерах «кокаинистов», это касалось и других видов наркомании, а также тяжелых случаев алкоголизма. Он утверждал, что лица с зависимостью от кокаина являются «социально-опасными элементами», совершающими антисоциальные действия и распространяющими «инфекцию» в своем окружении. Поскольку «кокаинизм» по своей сути считался автором «инфекционным заболеванием», Прозоров заявлял, что ответные меры должны быть аналогичными тем, которые предпринимаются эпидемиологами для профилактики вспышки любой инфекции: необходимо «локализовать источник инфекции»; изолировать и дезинфицировать носителя инфекции; и произвести «оздоровление почвы» [37: С. 23-25]. Примененный к наркомании, такой подход фактически предусматривал выявление и учет наркоманов, длительную изоляцию их от общества в колониях для принудительного лечения и беспощадную борьбу с распространителями наркотиков.
Хотя в первые десятилетия советской власти не было принято никаких специальных законодательных актов или межведомственных инструкций по вопросам принудительного лечения наркоманов,g еще в 1927 году советское правительство утвердило две инструкции, которые устанавливали конкретные правила и процедуры принудительного лечения: а) алкоголиков, представляющих социальную опасность («инструкция по применению принудительного лечения алкоголиков, представляющих социальную опасность») [23]; и б) людей с психическими заболеваниями [10]. Утвержденные совместным решением Наркомздрава, НКВД и Народного Комиссариата юстиции во исполнение декрета Совнаркома, они были основаны на одной модели и, несомненно, применялись для принудительной институционализации наркоманов, которые в соответствии с формулировками одной из инструкций «представляют социальную опасность на почве злоупотребления» наркотиками, «требуют специальной изоляции» и отказываются от «соответствующего лечения» на добровольной основе [23].
Для советских психиатров, которые рассматривали наркологию, как раздел психиатрии, посвященный расстройствам вследствие употребления наркотиков и алкоголя, все дебаты об организации наркологической службы в стране обычно охватывали оба вида зависимости. Поэтому не было случайным совпадением то, что в первом специализированном руководстве по лечению наркомании, изданном в Советском Союзе в 1940 году, многие лечебные учреждения описывались, как подходящие для оказания помощи в обеих группах. Очень важным оказался факт, что в данном руководстве четко прозвучал тезис о законности принудительного лечения алкоголиков, так же как и наркоманов, которые были неуправляемыми и социально опасными вследствие «наркомании». Однако еще более важным был акцент на использовании труда, как формы терапии, поскольку именно трудовые колонии считались наиболее подходящими учреждениями для длительного принудительного «лечения» наркоманов и алкоголиков и для адаптации их к «социально-плодотворной жизни». Срок такого «терапевтического заключения» обычно составлял от трех месяцев до одного года и, как утверждал автор руководства Иван Стрельчук, «при правильной организации всего дела такая трудовая колония может существовать на принципах самообеспеченности, не являясь бременем для государственного бюджета» [42: С. 207-208].
Стрельчук, конечно, был не первым и не последним советским автором, настаивающим на использовании труда как составляющей лечения, «перевоспитания» и «ресоциализации» морально испорченных и антисоциальных алкоголиков и наркоманов. Хотя в психиатрических больницах, например, труд издавна рассматривался, как важный компонент лечебного процесса, акцент на трудотерапии значительно увеличился в отношении советских пациентов с наркотической зависимостью. Как заявлял в 1924 году Прозоров, одним из ключевых отличий в лечении пациентов с зависимостью и других психических больных является мера применения труда в терапевтическом процессе. Так для первых, труд должен рассматриваться, как основа, а для последних ? это только необходимое условие, поскольку их трудоспособность чаще ограничена [37]. Даже еще при отборе пациентов для лечения, по мнению Бахтиярова, молодые морфинисты, которые «полезны» в плане своей производительности, должны отбираться в первую очередь. В Ташкенте врачи, ответственные за стационарное лечение наркологических больных, считали, что «перевоспитание» таких пациентов является компонентом так называемой активной терапии». Представление психиатрами наркомании преимущественно как болезни, к которой человек имеет предрасположенность вследствие определенной психиатрической патологии, привело к тому, что моралистические взгляды, касающиеся лечения опиатной зависимости получили большую поддержку в психиатрических и наркологических дискуссиях в конце 1920-х и в 1930-х годах. Один из авторов, призывая в 1931 году к возобновлению борьбы с наркоманией, даже заявлял, что морфинисты, безусловно, являются презренными людьми, страдающими «моральной инвалидностью», лишенными воли и совершенно бесполезными «элементами», как для страны, так и для общества [43-45].
Один из парадоксов заключался в том, что все это происходило, несмотря на факт, что специалисты по лечению наркомании часто имели дело в своих клиниках с «лекарственным наркоманом», который был скорее «жертвой» врачей, ошибочно проводивших лечение опиатами, или же сам был медицинским работником, а не антисоциальным опасным наркоманом, портрет которого описывался в ранней советской психиатрической литературе. Так, большинство статей на эту тему подчеркивали роль медицинских работников в «распространении наркомании» разными путями. В одной из самых первых работ, написанной в 1921 году, Кутанин высказал предположение, что около 20 процентов его пациентов с наркотической зависимостью были медицинскими работниками, а многие из остальных «начинали» свою «интоксикацию», следуя неосмотрительным советам врачей и медицинских сестер [16]. В 1924 году Прозоров назвал морфинизм в несколько обобщенной форме ? «профессиональной болезнью медицинского персонала» [37]. Несмотря на некоторые отличия в приводимом процентном соотношении людей, которые приобрели зависимость биомедицинским путем, многие другие авторы тоже делают большой упор на значимости лекарственной наркомании. При этом отмечено, что большое количество пациентов либо начинали употребление опиатов между серединой 1910-х и серединой 1920-х годов, после назначения им инъекций морфина медицинскими работниками, либо сами работали в сфере медицины.
Однако чтобы не сделать поспешных выводов о том, что наркомания в первые годы советской власти была незначительной и изолированной «медицинской» проблемой когорты стареющих потребителей опиатов, уместно упомянуть, что некоторые российские историки утверждали, что в первом десятилетии после большевистской революции употребление наркотиков в Советском Союзе преобладало над употреблением алкоголя. Любой автор, публикующий такие утверждения, должен подкрепить их существенными доказательствами, взятыми не только из медицинской литературы и характеризующими гораздо более широкую популяцию, чем население только двух крупнейших российских городов Москвы и Ленинграда. Такие доказательства отсутствуют в работах российских историков наркотических проблем, а информация, содержащаяся в медицинской литературе тех лет, показывает, что существенный процент потребителей наркотиков оставался вне досягаемости врачей. Например, как утверждал ташкентский врач Кодратченко, для около 60 процентов всех пациентов, лечившихся в Ташкенте в конце 1920-х годов, обращение за лечением было напрямую связано с невозможностью найти достаточно денег на приобретение постоянно дорожавших опиатов. Часто такие пациенты приходили в диспансер в рваной обуви, потому что они «все загнали на ширу» ? опиат, распространенный в этих местах. «Но что, если бы у них были средства на приобретение опиума?» - задает Кодратченко риторический вопрос и сам отвечает: «необходимость в медицинской помощи отпала бы сама собой» [28: С 1344]. Данные ташкентских врачей можно сравнить с тем, что российские психиатры наблюдали в Ленинграде в 1920-х и в начале 1930-х годов. Среди 189 пациентов, изученных Голант, часть которых приезжала со «всего (Советского) Союза», только 15 обратились за лечением, осознав «разрушительную силу морфия». Другие сделали это по необходимости, так как они не могли себе позволить приобретение опиатов на черном рынке, в подпольных притонах. Автор писала: «пока пациент имеет работу, он почти никогда не обращается по поводу лечения морфинизма» [27:С. 17-29].Также еще в 1921 году Кутанин заявлял, что наркоманы редко попадают в поле зрения специализированных психиатрических учреждений и что они обращаются за медицинской помощью только в наиболее тяжелых случаях. Вопрос о том, где искать таких людей, казался очень сложным до тех пор, пока он случайно не выяснил, что большой процент наркозависимых находился в учреждениях пенитенциарной системы [16]. В другой публикации из Ленинграда в 1928 году Горовой-Шалтан описал различные обстоятельства употребления морфина людьми, не имеющими контакта с наркологическими учреждениями. Некоторые из таких свидетельств, по-видимому, рассказаны самими пациентами несколько лет назад, другие больше похожи на пересказы, а в одном случае Горовой-Шалтан ссылается на свое собственное наблюдение при работе в отделении неотложной помощи. Все же, все эти свидетельства создают картину того, что могло происходить на наркосцене при отсутствии врачей, по крайней мере, для оказания наркологической помощи:
«Офицер с фронта попал в лазарет, где из шести медицинских сестер четыре были морфинистками. Среди пациентов – два опытных морфиниста и один начинающий. В связи с жалобами на нерезкие головные боли и не вполне хороший сон, сестры, без назначения врача, сразу предложили больному морфий, а соседи посоветовали к нему прибегнуть и даже дали свой шприц. Этот офицер, который воздерживался от морфина в течение одного года, снова мобилизуется (и) попал в полк (где) встретил старого приятеля морфиниста и снова не смог устоять перед искушением».
«Морфин предлагается партийному работнику в Совете его товарищами, как средство для того, чтобы побороть усталость и понизить нервное напряжение, вызванное работой во время наступления Юденича на Петроград».
«В продотряде, направляющемся на Урал за продовольствием, девять (сотрудников) оказались морфинистами, которые соблазнили десятого (на употребление морфина) и на обратном пути этот десятый (человек) уже был готов отдать все за то, чтобы добыть морфий».
«Работая в отделении неотложной медицинской помощи,… я имел возможность наблюдать случаи морфинизма у проституток и других завсегдатаев и посетителей разных кафе и подобных заведений. Там, честно говоря, морфин чаще употреблялся вместе с другими наркотиками, в частности, алкоголем и кокаином» [39: С. 47].
В отличие от медицинских работников, для которых опиатная зависимость была «профессиональным заболеванием» в связи с контактом с морфином и шприцами, и милиционеры и чекисты (и люди, имеющие отношение к органам власти) использовали свою «влиятельную профессию» для того чтобы поддерживать уже существующую у них зависимость и редко становились пациентами наркологов [45]. Однако была другая важная группа потребителей опиатов, которую врачи не имели права включать ни в медицинскую документацию, ни в научные публикации – это были члены Политбюро и некоторые правительственные чиновники высшего ранга. Согласно архивным материалам секретного отдела Центрального Комитета Коммунистической Партии, члены Политбюро имели очень широкий доступ к опиатам в конце 1920-х годов (и конечно не только в эти годы). По-видимому, они могли также брать наркотики непосредственно из кремлевских «аптечек скорой помощи» без всяких рецептов и других форм «участия врача». Не удивительно, что некоторые случаи привыкания к наркотикам советских государственных деятелей высшего звена не остались неизвестными, хотя это никогда публично не признавалось.
Другой парадокс был связан с ограничением прав потребителей наркотиков и запрещением им работать. С другой стороны, психиатры неоднократно подчеркивали, что труд – это важнейшая часть терапии, направленной на ресоциализацию. Однако, в то же время, они входили в группу ярых сторонников строгих ограничений свободы потребителей наркотиков – возможности выбирать сферу, в которой они могли работать в то время, когда они не находятся в специализированных лечебно-трудовых учреждениях. Это касалось не только советских врачей, страдающих зависимостью, которых лишали права назначать лечение и заниматься медицинской деятельность до тех пор, пока они могли доказать, что они достигли полного и стойкого «излечения». Медицинские сестры, страдающие зависимостью, были еще в более невыгодном положении, потому что они были менее необходимы для советского биомедицинского проекта. Как предложил в 1928 году Горовой-Шалтан, при обнаружении у медицинской сестры зависимости от морфина, она подлежала «удалению» из штата соответствующего лечебного учреждения навсегда. Если для указанных двух групп вопрос доступа к опиатам был одним из факторов, которые учитывались сторонниками ограничений, такой доступ явно не являлся основной движущей силой их призывов к дискриминации. Так как наркоманы считались «морально извращенными» и «безвольными», Горовой-Шалтан утверждал, что морфинисты не могут занимать «ответственные» должности. Так и Бахтияров писал, что морфинистам нельзя разрешать работать машинистами поездов или станционными служащими, так как это представляет «опасность». Поскольку другие авторы заявляли, что морфинисты могут «заражать» других людей своим патологическим пристрастием, Горовому-Шалтану представлялось очевидным, что они должны быть уволены из рядов армии и флота, а также им необходимо запретить проживание в общежитиях, где много людей будут подвергаться риску заразиться морфинизмом [39, 43].
В конце 1920-х и начале 1930-х годов, вопрос наемного труда и рабочей силы стал настолько важным для советского правительства и его политики, что фактически способствовал утверждению нового концептуального подхода к лечению опиатной зависимости. Возникший под влиянием работ Эрнста Джоэла (1893-1929), опубликованных в Германии в 1920-х годах и впервые переведенных на русский язык в 1930 году, этот подход опирался на идею назначения поддерживающих доз опиатов людям, страдающим зависимостью от морфина и героина, для того, чтобы улучшить их социальное функционирование и содействовать трудовой занятости наркоманов. Как будет описано ниже, в Советском Союзе к этому времени поддерживающее лечение пациентов с опиатной зависимостью не было новым подходом. Однако программа, которая была впервые внедрена в Ленинграде в 1930 году Н.В. Канторовичем и его коллегами, отличалась от других уникальным названием. Канторович полностью разделял взгляды Джоэла и был согласен с тем, что употребление опиатов само по себе не приводит к утрате работоспособности наркоманов. По мнению Джоэла, причины безработицы и страданий этих людей – это, в основном, их постоянная озабоченность поисками морфина, усилия, прилагаемые для приобретения дозы, страх, унижение, финансовые проблемы и необходимость вести подпольную жизнь. Основываясь на таком понимании, Канторович и его группа решили организовать поддерживающую программу (между прочим, ее чаще называли «снабжением наркотиками», а не поддержкой – последний термин отражал советский опыт экономических трудностей, требовавших ведения политики «продовольственных поставок» и «пайков») для людей, страдающих зависимостью от опиума, морфина и героина. Были разработаны четкие правила и критерии отбора участников. Эта программа, в частности, предназначалась для тех «неизлечимых хронических наркоманов», которые могли потенциально стать как продуктивными в смысле трудоспособности, так и социально полезными членами общества. Антисоциальные «криминальные наркоманы», которые «дошли до ручки» и деградировали, не подлежали приему в программу, как и те, кто ранее не лечился, или чье лечение было «недостаточным». Технические аспекты программы включали подбор дозы и предоставление привычного наркотика по выбору пациента (героин, морфин или настойка опия) в количестве, достаточном только для предотвращения развития абстинентного синдрома [46].
Основываясь на этих правилах и критериях отбора, Канторович с сотрудниками смог набрать 85 человек для своего исследования, длившегося шесть лет. Когда в 1936 году он впервые опубликовал результаты этой работы, он начал с критики известного тезиса Серейского о роли внешних факторов в этиологии морфинизма и отметил, что у любого человека, систематически потребляющего морфий в течение длительного времени, может развиться «сильное привыкание» к наркотику. Хотя Канторович считал, что психопатологическая конституция способствует этому процессу, он заявлял, что это не является обязательным условием. Для доказательства в пользу этого тезиса он представил результаты своего исследования с примерами историй болезни участников программы.
По данным Канторовича, «хорошие» результаты были получены у 40,1 процента пациентов, охваченных так называемым снабжением наркотиками. Пациент Ш. – один из примеров хорошего результата. Он употреблял морфин и героин в течение 18 лет и три раза безуспешно лечился в психиатрических учреждениях. Ш. был безработным и бездомным. Все его тело покрывали абсцессы и флегмоны. Через несколько дней после того, как Ш. был принят в программу поддержки в конце 1932 года, он нашел временную работу. Он смог выполнять эту работу и купил себе одежду. Затем он нашел постоянную работу дворника в общежитии. Ш. очень хорошо делал свою работу, и руководство дважды премировало его. Ш. прекратил употреблять наркотики внутривенным путем и перешел на прием раствора героина внутрь. Он очень аккуратно одевается, выглядит «на десять лет моложе», установил контакт со своей бывшей женой и хочет, чтобы она вернулась к нему.
Еще у 31,9 процентов пациентов достигнуты «удовлетворительные» результаты. Среди этих пациентов была женщина Е., которая двенадцать лет употребляла морфин инъекционным путем. Она поступила в программу в 1930 году и с тех пор в ней остается. В течение всех шести лет ее пребывания в программе поддержки, она смогла удерживаться на работе и помогать своим престарелым родителям. Пациентка Е. иногда тратила деньги на приобретение нелегальных наркотиков и прогуливала работу. Это случалось только тогда, когда Е. чувствовала, что ей недостаточно назначенных доз. Только у 28 процентов всех пациентов, по данным Канторовича, «не было получено позитивных результатов» [46: С. 73-74].
Однако, невзирая на очень многообещающие результаты исследования, проведенного Канторовичем, с одной стороны, и на громкие требования группы советских психиатров, прямо призывающих к применению трудотерапии в качестве основного инструмента, укрепляющего «производственную» дисциплину неуправляемых «психопатов-наркоманов», с другой стороны, на практике подавляющее большинство первых советских методов лечения наркомании в первые два десятилетия Советской власти были совершенно другими. Количество лечебных колоний для наркоманов и алкоголиков было очень мало, при этом большинство мест занимали алкоголики, остальные наркологические подразделения, включая те, которые работали в составе психиатрических больниц, имели ограниченное количество коек и, обычно, не имели трудовых мастерских и других условий, необходимых для организации трудотерапии для своих пациентов. Как писал один из опиатных наркоманов, лечившийся в Ташкенте в 1929-1930 годах: «[Я] бы хотел иметь возможность чем-нибудь заняться… [Я] лежу [здесь в наркостационаре], у меня такое чувство, как будто рецепт на морфин выцарапан гвоздем в моем мозгу» [44:С. 88]. Даже когда такие возможности были частично доступны в существовавших наркологических стационарах, психиатры и наркологи вскоре поняли, что пациенты с опиатной зависимостью обычно испытывают большую слабость после купирования синдрома отмены наркотиков и не способны выполнять работу, которую могут делать алкоголики. Более того, за пределами России много городов и районов просто не имели никаких специализированных наркологических учреждений.
Недостаток учреждений и лечебных возможностей был фактически одной из главных причин того, что во многих регионах в 1920-х и в начале 1930-х годов местные власти часто соглашались назначать опиаты наркозависимым, чтобы решать проблемы таким образом. Иногда в диспансерах прописывали опиаты пациентам на время, когда в стационаре не было свободных коек, а затем отменяли эти назначения, когда пациентам предоставлялась возможность пройти стационарное лечение, ориентированное на воздержание от наркотиков. Некоторые врачи, работавшие в государственной системе, имели частную практику, и в таких городах, как Ленинград, Воронеж, Одесса, Ташкент, Баку и Орел они играли ведущую роль в прописывании опиатов потребителям наркотиков [27, 43, 45]. Однако, вне больших городов, (в особенности, Москвы и Ленинграда, которые многими постсоветскими историками проблемы наркотиков считаются хорошо представляющими историю наркологии во всем Советском Союзе) имелись большие региональные различия.
Например, на российском Дальнем Востоке в то время не было специализированных наркологических учреждений, и, начиная с 1923 года, опийные наркоманы в Амурской губернии получали рецепты на наркотик от местных органов здравоохранения. В свою очередь наркоманы обязывались принимать наркотики только в домашней обстановке и наказывались штрафами или принудительными работами в случаях, если их замечали принимающими наркотики вне дома. В тоже время во Владивостоке местное руководство решило пойти совершенно другим путем, и собрало всех нищих, бродяг и наркоманов в специальном «доме», который, однако, вынуждены были закрыть через несколько месяцев, в связи с отсутствием финансирования, необходимого для содержания этого изолятора. В 1924 году, когда все имевшиеся средства были израсходованы, нищие и наркозависимые были принудительно переведены на один год в концентрационный лагерь на острове Русском [47].
В Туркменистане количество желающих получать лечение по поводу наркомании было настолько велико, а возможности специализированных лечебных учреждений настолько ограничены, что в конце 1930-х годов местные власти и психиатры придумали установить временные юрты на 5-10 коек для того, чтобы проводить лечение опиатной наркомании. Такие учреждения обеспечивались минимальным количеством персонала, включавшего одного врача и одну медицинскую сестру для оказания всей помощи; перед этим персонал получал основные инструкции от психиатра. В связи с большой распространенностью употребления опиума в стране, использовать психиатрическую терминологию и ставить местным пациентам диагноз «психопатия» представлялось невозможным по политическим причинам даже в конце 1930-х годов. Вместо этого, профессор Е.В.Маслов, директор психиатрической клиники Туркменского медицинского института, в статье, написанной в 1939 году, вынужден был описывать потребление опиатов в Туркменистане, используя язык социальной гигиены. По данным Маслова, многие местные потребители наркотиков начинали их использовать в терапевтических целях, как лекарство от всех болезней. У части из них зависимость от курения опиума возникла из-за «некультурности»; другие научились принимать опиум от старших опытных наркоманов. В такой «отсталой» и «некультурной» среде Маслову не оставалось другого выбора, кроме профилактических мер на основе «культурного просвещения»: брошюры, стенды, лекции и фильмы – все было направлено на борьбу с опиумом [48]. В Туркменистане только представители русского меньшинства, употреблявшие опиаты инъекционным путем, могли называться «психопатами», и, поскольку их зависимость считалась неизлечимой, они имели возможность получать рецепты на морфин, по меньшей мере, до середины 1930-х годов [49].
В Таджикистане до 1941 года не было ни одной психиатрической больницы, а первый специализированный наркологический кабинет был открыт только в конце 1950-х годов. Хотя в середине 1930-х годов были развернуты первые десять психиатрических коек в инфекционной больнице (!) в столице Таджикистана, они не использовались для оказания наркологической помощи и были предназначены для временного применения успокаивающих средств и изоляции пациентов с острыми психотическими расстройствами. Учитывая описанную ситуацию, у психиатров и наркологов Советского Таджикистана существовало мнение, что до 1940-х годов таджикских наркоманов отправляли для специализированного лечения в другие психиатрические учреждения, расположенные вне республики, в частности, в Узбекистане. Такая мысль высказывалась в многочисленных публикациях, что поощрялось, поскольку это помогало поддерживать миф о доброжелательном советском государстве и его биомедицинском проекте, выражавшемся в заботе о больных и даже направлении их на лечение в другие республики [50-52]. В действительности же ситуация с лечением наркомании в Таджикистане в 1920-х и 1930-х годах была более сложной и резко отличалась от того, как ее описывали таджикские психиатры. В Таджикистане только две или три койки были развернуты в ташкентских психиатрических/наркологических учреждениях для госпитализации пациентов с психическими заболеваниями, наркоманией и алкоголизмом. Не удивительно, что когда потребители опиатов иногда направлялись на лечение в Узбекскую ССР, они оказывались и не европейцами и не таджиками. Среди небольшого количества русских и других европейцев, которых посылали на лечение, многие имели страховку, и в конце 1920-х годов это было важным фактором приоритетного доступа к любому виду медицинской помощи. В начале 1930-х годов на севере Таджикистана был открыт Институт физических методов лечения (или Республиканский физиотерапевтический институт). Как свидетельствуют материалы архивов Душанбе, немногие русские потребители морфина, которые жили в Таджикистане в это время, также направлялись в это учреждение. Применявшиеся в институте методы терапии включали «лечение светом», «лечение теплом», электротерапию, гидротерапию, грязевые лечебные ванны, массаж и новокаиновые блокады. Когда сотрудники института опубликовали в 1940 году первые научные статьи, оказалось, что для лечения некоторых заболеваний применялись также «слаборадиоактивные отходы местной полиметаллической промышленности» [53-60]. В то же самое время в географически изолированных регионах страны, в которых наблюдался крайне высокий уровень распространенности потребления опиума среди местного населения и отсутствовали наркологические учреждения, «борьба с наркоманией» велась на административном «фронте» и закончилась репрессиями потребителей опиума в конце 1930-х годов.
В Центральной Азии разные типы опиатов употреблялись в разных местах и ситуациях разными группами потребителей. Однако в первые десятилетия Советской власти в наркологические учреждения Узбекистана по разным причинам чаще обращались потребители наркотиков европейского происхождения. В 1934 году Леонид Анцыферов, не приводя конкретных цифр, анализировал данные республиканской психиатрической больницы в Ташкенте и обнаружил, что большинство «гашишистов», которые «закончили курсом лечения», было представлено не местными уроженцами, а людьми русской национальности [61: С. 12]. Однако никто из первых авторов советской Центральной Азии не хотел воспринимать наркоманию как «европейскую болезнь». Они часто были готовы рассматривать своих пациентов, как представителей центральноазиатской популяцией потребителей наркотиков, и в целом отказывались от мысли, что местное население может быть «менее инфицировано» наркотиками, и предпочитали видеть «наркопроблему» среди «местных уроженцев». Четырьмя годами ранее Кондратченко писал, что «идея лечения от наркотизма» была «недостаточно популярной» среди узбеков и предупреждал, что данные о небольшом проценте узбеков в его выборке амбулаторных пациентов являются недостоверными [28: С. 1340]. Однако тот факт, что русские представляли большинство «наркоманов», обращавшихся в наркологические учреждения Ташкента, и что многие медицинские публикации раннего советского периода, посвященные наркомании в Центральной Азии, фактически основывались на данных о русских и других «не местных» пациентах, никогда не признавался более поздними исследователями наркоситуации в этом регионе. Напротив, они обычно характеризовали потребление наркотиков в первые годы Советской власти, как часть обычаев и бытовое потребление наркотиков, что характерно для Центральной Азии, и поддерживали стереотип исключительно регионально «традиционного» потребления наркотиков. По их данным «наркомания» в Центральной Азии обычно рассматривалась как болезнь, возникающая в результате недифференцированного назначения опиатов местными представителями «традиционной» медицины – табибами. Объединение понятий «опиаты» и «табибы» служило политической цели властей представить табибов как «зло» и удалить «отсталые» и «неграмотные» медицинские практики из повседневной жизни Центральной Азии.
Однако различия между больными, обращавшимися за медицинской помощью и не обращавшимися за таковой, были отмечены не только в их этническом происхождении и большем доверии к советским врачам, но также в паттернах потребления наркотиков, отмечавшихся в этих двух группах. Так как люди чаще становились «пациентами» наркологического учреждения вследствие употребления определенного опиата, использования определенного метода введения наркотика или комбинации методов, и все это длилось определенное время, значит предпочтения потребителей наркотиков – «европейцев» отличались от предпочтений «местных». Например, употребление кукнара, как «традиционного» местного опьяняющего вещества, широко отмечалось многими исследователями досоветской и советской Центральной Азии. Однако мы не видим ни одного местного «кукнариста» среди наркологических пациентов, описанных в работах раннего советского периода. Это относится как к Ташкенту, где узбеки составляли около 10 процентов в одной выборке, 25 процентов в другой, так и к Ашхабаду, где в отличие от Ташкента «местные» составляли 87 процентов пациентов, получающих лечение от наркомании [28, 44, 49]. Невзирая на образ «несчастных» людей, которые никак не могут избавиться от «дьявольской страсти» и таким образом «сохранить себе несколько лет жизни», создававшийся некоторыми императорскими актерами, администраторами, врачами и этнографами досоветского периода, потребление кукнара не увеличивало количество желающих лечиться от наркомании среди местного населения по всей Советской Центральной Азии [6, 62-66].
С другой стороны, как писал Кондратченко в 1930 году, «только деклассированный и испорченный опиоман-европеец, находящийся в состоянии «кумара» (местное название синдрома отмены, обычно используемое в Центральной Азии) согласится (употреблять) кукнар» [28: С. 1339]. Среди русских их предпочтение, отдаваемое очищенным опиатам с высоким содержанием морфина и употреблению нескольких наркотиков, являлось важным предиктором постановки диагноза «опиомания» и обращения за наркологической помощью. Так, опиум-сырец, называемый терьяк (а также тарьек и тарьяк), который местное население часто использовало, растворяя в чае, не употреблялся «европейцами» из-за «неприятного вкуса». Как утверждал Кондратченко, вместо этого они предпочитали употреблять чакиду (Кондратченко употребляет термин «чигида» и, вероятно, так это вещество называлось русскоязычными потребителями в 1920-х и 1930-х годах) – наркотик, производимый из опиума-сырца при его очищении и высушивании посредством «ряда манипуляций» и распространяемый в форме очень темных («черный») тонких пластинок. Другим опиатом, предпочитаемым русскоязычными пациентами, хотя, конечно, употребляемым и местным населением, также как иранцами и афганцами в Узбекистане в первые годы Советской власти, была так называемая шира. По описанию Кондратченко, шира отличалась от чакиды несколькими особенностями: более светлой окраской, более высоким содержанием морфина и разными примесями, включая гашиш и Strychnos nux vomica, которые иногда добавлялись к наркотику [28: С. 1339]. В 1925 году узбекский журнал «Эр Узи» опубликовал статью Бойиша, который описал употребление ширы в «опиумном притоне» и утверждал, что обычной практикой было добавлять в ширу при ее «варке» «сухту» «для того, чтобы сухта придавала крепость шире» [67: С. 4]. Сухта буквально означает «сожженная» и этот термин употреблялся по отношению к остаткам сгоревшего опиума, остающегося в трубке для курения опиума. Что касается содержания морфина, оно считалось более высоким в сухте по сравнению с широй. Существующие источники указывают, что сухта использовалась также в чистом виде после превращения в порошок, растворения в воде и последующего кипячения. Она продавалась в заранее заполненных шприцах объемом два миллилитра, была так же доступна и так же дешева, как доза кукнара, и, по имеющимся сообщениям, вводилась подкожно [28, 49]. Хотя использование подкожного и внутривенного введения опиатов местного производства на наркосцене Центральной Азии в 1920-х и 1930-х годах может показаться неожиданным для многих исследователей, изучающих потребление наркотиков в постсоветской Центральной Азии, такое употребление сухты было отмечено в середине 1930-х годов в Ашхабаде. Ее вводили как подкожно, так и внутривенно, и такое применение было характерно исключительно для русских потребителей опиатов [49]. Наряду с каннабисом, кокаином, героином, морфином, дионином и кодеином, доступными в Центральной Азии раннего советского периода, психиатры также описывали употребление русскими пациентами нескольких наркотиков и отмечали почти полное отсутствие такого паттерна потребления среди узбеков [28, 44, 68].
При обычной длительности стационарного лечения «наркомании» в наркологических учреждениях России и других республик в пределах одного-двух месяцев (а в некоторых регионах, как, например, наркологический стационар в Ашхабаде, средняя длительность пребывания пациента на лечении составляла 22 дня); стремление советских психиатров к интенсивному использованию трудотерапии редко реализовалось и часто оставалось благим пожеланием. Хотя в 1928 году Горовой-Шалтан отмечал, что главной задачей психиатра является «излечение» морфинизма, а не просто купирование состояния отмены морфина, споры и дискуссии на тему стационарного лечения и разных методов отнятия опиатов в клиниках фактически заняли центральное место в развитии наркологии с конца 1920-х годов [39]. Как отмечалось в посвященной наркомании медицинской литературе 1930-х годов, эти методы значительно отличались друг от друга в разных регионах Советского Союза. В Баку предпочтение отдавалось быстрому методу отнятия опиатов, самарские психиатры применяли постепенный метод, отменяя своим пациентам опиаты в течение 30-45 дней. Быстрый метод также обычно не применялся в Ашхабаде, ели только сами пациенты решали переносить процесс отмены без помощи терапевтических доз опиума или морфина [45, 49]. Однако многие ведущие учреждения, в том числе расположенные в Москве, Ленинграде и Ташкенте, склонялись к одномоментному отнятию опиатов при лечении своих пациентов.
По мнению Голант, высказанному в 1928 году, одна из главных причин такого подхода – стремление сократить количество дней, в течение которых и пациенты и сотрудники вынуждены страдать. В ленинградской клинике, где она работала, сначала применялся метод отнятия опиатов в стационаре путем постепенного снижения дозы в течение трех-четырех недель. Пока так продолжалось до 1925 года, пациент и его врач «воевали» друг с другом, каждый раз, когда необходимо сбыло снизить дозу. По мнению Голант, психологически этот метод был более тягостным для пациента по сравнению с одномоментным отнятием, и явно причинял серьезные неудобства для сотрудников клиники, которые должны были безжалостно отказывать просьбам пациентов в инъекции, дополнительной дозе морфина. Ситуация изменилась, когда было принято решение не назначать никаких опиатов пациентам после поступления в клинику. Хотя реакция пациента на одномоментное отнятие наркотиков было довольно бурной, Голант утверждала, что обычно это длилось в течение очень короткого периода от трех до шести дней и сопровождалось ощутимым улучшением состояния [27]. На основании опыта московской клиники Стрельчук сообщал, что метод одномоментного отнятия, является предпочтительным для экономии ресурсов и времени, что на практике означало, что пациент мог быть выписан очень скоро. Ташкентские врачи также заявляли, что у них нет причин сожалеть о своем выборе метода одномоментного отнятия наркотиков, и утверждали, что адекватное инструктирование персонала и доступность медикаментов, необходимых для облегчения различных симптомов, которые развиваются после одномоментного отнятия, позволяли проводить лечение очень успешно [44, 69]. Однако проблема заключалась в том, что такие оптимистичные взгляды врачей не разделяли их пациенты. Как ярко свидетельствуют мемуары русскоязычного «опиофага» из Ташкента о его «переживании симптомов отмены», реальные переживания пациентов в течение первой недели после одномоментной отмены наркотиков гораздо более разрушительны, чем обозначаемые словом «бурные» [70].
Несколько ограничивали применение этого метода коллаптоидные и делириозные состояния, особенно у тех пациентов, здоровье которых было в значительной степени ослаблено потреблением опиатов, и которые, очевидно, составляли значительный процент всех случаев. К тому же этот метод нельзя было использовать для отнятия опиатов у беременных женщин. Вместо этого, как указано в статье, опубликованной в Туркменистане в 1939 году А.Стрелюхиным, им приходилось делать инъекции морфина и проводить отнятие наркотиков в течение одного месяца после поступления в стационар, если это была вторая половина беременности [71].
Серьезные нарушения здоровья в состоянии отмены, которые были особенно выражены при одномоментном методе, также заставляли врачей искать другие пути для того, чтобы сделать этот период менее тяжелым для пациентов, существенно не увеличивая нагрузку на коечный фонд хронически переполненных и недоукомплектованных персоналом невропсихиатрических и наркологических учреждений. Вероятно, одним из наиболее широко применяемых лекарственных веществ был хлористый кальций, который вводился внутривенно для того, чтобы повысить температуру тела пациента и уменьшить боли. Когда западные авторы опубликовали свои работы, предлагавшие использование инсулина с глюкозой для купирования синдрома отмены, Стрельчук и другие психиатры тоже внедрили инсулин в наркологическую практику. Терапия кислородом продолжала считаться «очень полезным» дополнением к арсеналу специальных средств для лечения опиатной зависимости еще многие десятилетия после первых опытов Шоломовича и заслужила похвалу в третьем издании учебника, опубликованного Стрельчуком в 1956 году [32, 42, 69]. Однако одно из самых захватывающих и загадочных советских нововведений в области наркологии было связано с препаратом гравидан, созданным Алексеем Замковым (мужем выдающегося советского скульптора Веры Мухиной). В конце 1920 годов использование этого гормонального средства, получаемого из стерилизованной мочи беременных женщин, для лечения опиатной зависимости продолжалось с начала 1930-х годов до декабря 1964 года, когда министерство здравоохранения СССР исключило гравидан из списка разрешенных лекарственных препаратов h.
Несмотря на окончательный вывод Стрельчука (в его руководстве по лечению наркомании 1940 года издания), что быстрый метод отнятия наркотиков «более гуманен» по сравнению с одномоментным, он по-прежнему рекомендовал использование последнего для пациентов с хорошим соматическим состоянием. Автор указывал, что одномоментное отнятие пользовалось набольшей поддержкой наркологов. По его мнению, среди преимуществ этого метода было быстрое купирование симптомов отмены ? за три или четыре дня после поступления в стационар, что способствует началу «настоящего лечения морфинизма». При этом рекомендуемая минимальная длительность пребывания пациента на лечении составляла шесть месяцев – гораздо дольше, чем, очевидно, какое-либо советское наркологическое учреждение могло обеспечить! В каком объеме внедрялось «настоящее лечение морфинизма» с ваннами, душами, диетой, трудотерапией в течение трех-четырех часов на свежем воздухе, гипнозом, внушением и рациональной психотерапией, в соответствии с рекомендациями Стрельчука, в различных стационарах страны, которая была на грани войны – это был другой серьезный и трудный для решения вопрос, который существенно влиял на оценку советскими психиатрами эффективности лечения наркомании [42].
ЗаключениеВ 1936 году Канторович опубликовал свою статью о результатах шестилетнего исследования поддерживающей терапии опиатами в Ленинграде, этот метод оказался более эффективным в повышении социального функционирования и трудоспособности, а также в снижении уровня криминального поведения пациентов, по сравнению с другими методами, описанными исследователями раннего советского периода, которые использовали постепенные, быстрые или одномоментные способы отнятия опиатов. Однако именно в этот момент истории советского народа, государство было накануне запуска своего собственного «эффективного» и самого смертоносного «лечения» «преступников» и всех других «антисоветских элементов», включая наркоманов. Вопрос об эффективности лечения наркомании явно не был важнейшим в политической и идеологической жизни Советского Союза в конце 1930-х годов. Поэтому внося предложение о том, что небольшая группа граждан должна получать свой «опиум» в обществе, которое стремилось освободиться от наркомании, Конторович подвергал себя огромному риску. Единственный способ, который он мог применить, для того чтобы постараться избежать ареста, это завершить свою статью следующими словами, которые мы сейчас можем прочесть: «Само собой разумеется, что снабжение хроников наркотиками должно рассматриваться, как временная, паллиативная мера, которая никоим образом не освобождает нас от необходимости дальнейших поисков радикальных терапевтических мер и от повторных попыток лечения пациентов» [46: С. 74].
Не желая оглядываться на прошлое своей профессии, некоторые психиатры и наркологи постсоветского периода все еще продолжают искать волшебную пулю для уничтожения наркомании (и остаются довольными жестокой политикой запрета заместительной терапии опиоидами, которую проводит российское правительство) – сталинский режим уже нашел ее в 1937 году. В Москве, где репрессивные меры были направлены, в основном, на «притоны» и их порочных обитателей, распространенность потребления наркотиков снизилась, согласно одному из источников, «только с середины 1930-х годов» с 90 случаев на 10000 населения в 1932 году до 9 случаев на 10000 населения в 1940 году [72]. В 1940 году ведущий советский психиатр и нарколог, работавший в Москве, Иван Стрельчук, уже отмечал «почти полную ликвидацию наркомании в СССР» в своей книге, посвященной лечению наркомании, и казалось, что ситуация до некоторой степени стабилизировалась, как с наркоманами, так и с лечением наркомании, но всего лишь через год возник следующий переломный момент, когда Германия вторглась в Советский Союз.
В 1941-1945 годах, как легко можно себе представить, потребность в легальных опиатах в Советском Союзе стремительно возросла. При большом количестве раненых солдат, испытывавших мучительные боли, опиум стал одним из главных стратегических товаров государства, и весь урожай мака, произведенный в Киргизской ССР, должен был использоваться «для фронта». Любой, кто посягал на урожай маковых полей в Киргизии во время Второй Мировой войны, расстреливался на месте, как «дезорганизатор тыла и пособник врага» [73: С. 25]. Обеспечивать оставшихся хронических «психопатов-наркоманов», которые пережили репрессии и не попали в Гулаг, «наркотическим пайком» было немыслимо. Однако еще до окончания войны советские психиатры столкнулись с совершенно другим медицинским феноменом «героя-наркомана» и это резко изменило их отношение к лечению наркомании. Как «два выдающихся советских психиатра, занимавшихся лечением зависимости… со времен войны», вспоминали в конце 1980-х годов, «в первые послевоенные годы большинство пациентов с наркоманией (с которыми мы имели дело) состояло из морфинистов, у которых зависимость возникла во время массивного медицинского использования наркотиков в качестве болеутоляющих средств во время войны…». «У них не было ничего общего с теми отбросами, которые мы видим сегодня,… они были серьезными, положительными людьми, солдатами. Это была не их вина…» [74: С. 32].
Каким образом некоторые из этих «положительных» людей, невиновных в своей болезни, окажутся в ситуации русских ветеранов Первой мировой войны, а их статус радикально изменится – от «лекарственного наркомана» до «психопата-наркомана» - является вопросом, который созрел для научных исследований. Но тогда, в 1940-х годах, государство вынуждено было впервые отдать дань «героям наркоманам», которые всем пожертвовали во время Великой Отечественной войны и спасли свою родину. Помещать их в психиатрические больницы или в невропсихиатрические диспансеры, где не хватало персонала, медикаментов, продуктов питания и которые были катастрофически переполнены, заставлять их пройти одномоментное отнятие наркотика, которое они могли не пережить, было бы крайне неблагодарным со стороны советского государства [35].
В данной ситуации нужно было возвратиться к поддерживающему лечению, а также предпринять другие меры. Начиная с 1948 года, московские психиатры начали систематически использовать новый метод «деморфинизации» для лекарственных наркоманов, вводя пациента в глубокий и длительный сон, вызываемый введением амитала-натрия. По мнению Стрельчука, внедрение этого метода было обусловлено необходимостью «гуманизации» лечения морфинизма. Он избавлял пациентов от мучительных страданий и предупреждал развитие возможных осложнений, вызываемых использованием других методов отнятия опиатов, включая смертельные и не смертельные случаи коллаптоидных состояний и делириев. Помощь, которую государство соглашалось оплачивать при гуманной деморфинизации «героев наркоманов», была несравнима с той, которая оказывалась их товарищам «психопатам-наркоманам»: круглосуточное дежурство медицинской сестры в палате героя в течение около двух недель: ежечасная проверка и фиксация во время его сна пульса, температуры, артериального давления и частоты дыхания; кормление пациента, помощь в пользовании туалетом; грелки к конечностям [32]. В это же время в Ташкенте психиатры предлагали шире использовать никотиновую кислоту для того, чтобы облегчить симптомы отмены, и считали, что этот метод особенно подходит для лечения наркоманов военного времени, так называемых «госпитальных наркоманов» [75].
По иронии судьбы, в это самое время руководители здравоохранения с гордостью объявили о полном отсутствии в Узбекской ССР (и в других регионах) наркомании, которая, по их мнению, исчезла благодаря заботе Советской власти о культуре, образовании и медицинской помощи для советских людей [76]. Однако фактически советская программа культурного просвещения мало касалась конкретно потребления наркотиков и, как я показал в данном обзоре, коммунистические функционеры «упразднили» зависимость в процессе административной и репрессивной борьбы с наркоманией – борьбы, в которой советский врач потерпел поражение, а сотрудник НКВД «преуспел», убивая и лишая свободы, без всякого лечения.
Ключевые слова: советская наркология; история; социальная гигиена и психогигиена; психиатрия; лечение зависимости; поддерживающая терапия опиоидами; репрессии против потребителей наркотиков
Список сокращений В тексте используются следующие сокращения: Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения; НКВД – Народный комиссариат внутренних дел; Совнарком – Совет Народных Комиссаров.
Конфликт интересов Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Сведения об авторе: 1 Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) Вильнюс, Литва. 2 Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии (ЦИГЗЦА), Колумбийский университет, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Примечанияa Хотя многие ведущие русские психиатры свободно владели иностранными языками, оказалось, что работы Эрленмейера (и Солльера) по лечению зависимости от морфина, впервые стали доступны в российском переводе только в 1899 году. Монография Буркарта о хроническом отравлении морфием была опубликована на русском языке в 1882 году [42, 46];
b Многие статьи первого выпуска сборника «Вопросы наркологии» сначала были представлены и обсуждены на Первой научной конференции по вопросам наркотизма, организованной в Москве в декабре 1923 года, после Всероссийской конференции по вопросам психиатрии и неврологии;
c В разных статьях Шоломовича имеются расхождения касательно количества новых пациентов [18, 25];
d Стоит упомянуть, что постсоветской России существовал постоянный интерес к использованию кислорода в лечении наркотической и алкогольной зависимости [77];
e Например, в 1931 году, говоря в основном о невропсихиатрических диспансерах, Прозоров писал, что количество повторных посещений было очень небольшим в тех диспансерах, у которых не было собственного оборудования для физиотерапии и они не могли направлять своих пациентов на такие процедуры (это значит в тех диспансерах, где практиковали «советы» и «разговорную терапию») [17];
f Эта работа была впервые представлена в январе 1924 года на Втором Всероссийском съезде по психоневрологии в Ленинграде;
g Например, в начале 1930-х годов Камаев был одним из авторов, который продолжал подчеркивать необходимость организации принудительного лечения наркоманов, относя это к категории «борьбы с наркоманией на административно-законодательном фронте» [45];
h Существует большое количество журнальных и газетных статей, посвященных истории лечения гравиданом и его использованию в советской наркологии [78-81], наряду с имеющимися основными источниками [32, 42, 49, 69]. В Центральной Азии применение гравидана впервые описано в 1936 году В.Смирновым, работавшим в наркологическом отделении психиатрической больницы Ашхабада, Туркменистан. По данным Смирнова, назначение гравидана существенно не влияло на течение синдрома отмены опиатов. Отзывы пациентов были часто негативными, так как они жаловались, что гравидан не помогал облегчить кумар (состояние отмены), а инъекции усиливали болезненные ощущения [49].
Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||