 |
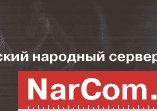 |
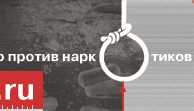 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Какая трансформация социальной сферы нужна Газпрому, МВД? Какая – Государственной Думе? Какая – Вам, уважаемый посетитель? Р. Максудов, М. Флямер Доклад подготовлен на 5 международный симпозиум "Куда идет Россия?... Трансформация социальной сферы и социальная политика". Проблема реформаторов и успеха реформаторской деятельности имеет уже сложившуюся традицию особой формы проектных претензий властвующих субъектов российского и советского мира. По мнению многих политологов, культурологов, историков исторической ошибкой многих реформаторов было отношение к объекту реформирования как к чисто искусственно изменяемой конструкции, не имеющей своей собственной социо-культурной траектории, выражаемой в виде определенных эволюционирующих социально-групповых установок, способов и форм решения повседневных ситуаций и т.д. В то же время, недостаточно работ (1), в которых была бы предпринята попытка рассмотрения самой реформаторской деятельности как элемента управленческой культуры советского мира, воспроизводство которой мы видим во многих властных решениях политических деятелей постсоветского пространства. В данном докладе мы хотим рассмотреть социальные аспекты сложившегося в России государственного управления. Фундаментальное отличие Российского мира от западного задается не столько отсутствием рыночной экономики и правового государства, а особым типом управления и политики. Он сложился как ответ на сложную ситуацию, в которой оказалась дореволюционная Россия, позволил преодолеть ее и закрепился во властной идеологии и массовом сознании (2). Данный тип управления интересно сопоставить с той привычной управленческой идеологией, которая господствует на Западе. Мы приведем один пример, о котором нам рассказывали западные эксперты. В начале 90-х годов в тюрьмах Англии и Уэльса произошли массовые волнения заключенных. Для расследования причин беспорядков была создана соответствующая комиссия из юристов, бывших тюремных работников, социологов и других ученых. Причем в состав комиссии входили известные, обладающие определенным влиянием на общественное мнение люди. Группа провела исследования, в ходе которых были проведены и опросы самих заключенных (особенно там, где происходили волнения). Собранная информация была проанализирована, и на основе этого анализа были сделаны выводы о причинах волнений, выработаны рекомендации для правительства по изменению ситуации в тюрьмах. В итоговом докладе комиссии, говорилось, что эти рекомендации "были встречены с одобрением всеми тюремными службами и инициативными группами по осуществлению реформы пенитенциарной системы". Решение проблем было построено на основе знания ситуации, существующей в британских пенитенциарных учреждениях, и принято государственными структурами. У нас сложилось иное общество, в котором реагирование на ситуацию происходит не с точки зрения знания этой ситуации, а с точки зрения обеспечения лучшей выживаемости социальных структур и людей, в нее входящих (3). Когда происходят события, негативно влияющие на нашу жизнь, основным средством реагирования на них является не поиск рациональных и оптимальных выходов из ситуации (4), а создание и укрепление социальных структур, которые преодолевают ситуацию за счет величайшего напряжения человеческих ресурсов и их бесконтрольного разбазаривания, а часто и уничтожения. Исторически такой способ жизни общества сложился и закрепился за счет изменения функций государственных органов. Государственные органы так и не оформились в формально-правовые институты общества (5), а приобрели статус глобальных проектных инстанций. Пройдя такую метаморфозу, "государственные органы" стали претендовать на всю полноту управления хозяйственной, социальной, культурно-образовательной, правоохранительной и другими сферами. Эти претензии сопровождались подавлением социальных групп и людей, не вписывающихся в те или иные проектные инициативы органов власти. Далее выяснилось, что такое подавление легко превращается в ресурс строительства нового общества (ГУЛАГ). Если в начальный период существования Советской власти функции исполнительной власти были жестко связаны с целями Советского государства во внутренней и внешней политике (индустриализация, коллективизация, борьба с чуждыми классами, создание ВПК и т.д.), то с 60-годов управленческая идеология и контролирующие ее реализацию партийные структуры в силу определенных внешних и внутренних условий стали приобретать гораздо более социально-ориентированный характер (так называемый период “застоя” 70-х годов вспоминается значительной частью пожилых людей с грустью и теплотой. Одновременно происходила потеря связи органов власти с общественно-полезными функциями и концентрация ее усилий на распределении и перераспределении как методе управления в целях создания минимальных условий для выполнения деятельности (6). Важно отметить не сам факт распределения властью ресурсов, а то, что это становилось приоритетной функцией власти и ее органов сверху донизу. При социализме такой способ существования имел определенные рамки, подчинялся выполнению государственных задач, и контролировался партийными структурами (7). Это вводило ограничение на “аппетиты” индивидов, социальных групп, корпораций. Постепенно идеология коммунистического строительства, цементирующая социальную ткань общества и связывающая деятельность различных социальных групп и общностей стала распадаться. Фактически это стало следствием того, что формы идеологии и структуры управления не успевали за темпом и направленностью различных социальных процессов, вызванных самим же управлением. Борьба с диссидентами была агонизирующей попыткой Советской власти удержать контроль над идеологией. Фактически в иных условиях была воспроизведена управленческая ситуация конца ХIХ века в царской России, когда репрессии против народовольцев стали еще более способствовать кризису власти. Социальная ориентированность политики, включение в даже минимальной степени СССР в мировое сообщество, “хрущевская оттепель” вызвали к жизни такие процессы, которые потребовали смены идеологии и способов управления советским обществом. Все это подготовило условия для смены власти и приходу политиков “демократической ориентации”. В период реформ 90-х годов произошло резкое ослабление роли органов государственной власти не только в хозяйственных и социальных сферах, но и в охране правопорядка и национальной безопасности. Тенденция к подмене государственного регулирования “невидимой рукой рынка” сочеталась с государственным фетишизмом обыденного сознания, которое функции отдельных сфер (социальной, правопорядка) отождествляет с функциями государства и до сих пор ждет от органов исполнительной власти опеки во всех жизненных ситуациях. Отказ от всеобъемлющего регулирования, установка на “разгосударствление” не перешли в ясное понимание новой роли и функций государственной власти и не привели к созданию на этой основе более эффективных структур и технологий управления. В отсутствие четко выстроенной системы государственных приоритетов и системы государственного и общественного контроля за их реализацией люди, работающие во многих органах исполнительной власти стали постепенно образовывать структуры, работающие сами на себя (паровоз для машиниста, лес для лесника и т.д.). В этом смысле, реалии сегодняшней России позволяют говорить не только о “теневой” экономике, то есть неучтенных в статистике и часто имеющих криминальный характер хозяйственных связях, но и о “теневых сообществах”, сложившихся в СССР и получивших свое ярко выраженное существование и расцвет в период реформ. Теневое сообщество складывается в условиях замыкания функций социальной группы на функциях собственного сохранения и воспроизводства. Нельзя сказать, что социальная группа не должна иметь таких функций (8). Проблема заключается в том, что в теневых сообществах все остальные функции подчиняются только функции собственного социального воспроизводства. Главной задачей организации, в которой существует "теневое" сообщество становится лоббирование ресурсов на собственное сохранение, социальная реклама своего существования, расширение политического контроля за другими организациями, обеспечение и повышение социального статуса. При этом создаются механизмы, препятствующие вводу целей объемлющей системы (в данном случае общественно-значимых функций), а также правовому очерчиванию формальных мест, статусов, процедур как способа функционирования организации. Мощные корпорации типа “Газпром”, МВД, Прокуратуры и т.д. - яркие примеры “теневых сообществ”. Правительство в этой ситуации - является официальным местом переговоров представителей теневых сообществ. Опасность сегодняшней ситуации состоит в том, что теневые сообщества стали прибирать к рукам инструменты государственного подавления людей. Но если раньше это было как-то сопряжено с внеше- и внутриполитическими целями, то сегодня государственное подавление диктуется чисто ведомственными аппетитами. Теперь уже не стратегические интересы детерминируют те или иные политические решения, а сговор в правительстве представителей теневых сообществ. Война в Чечне - яркое этому подтверждение. В связи с этим вполне уместными выглядят вопросы - какая трансформация социальной сферы России нужна "Газпрому", МВД и т.д.? ПРИМЕЧАНИЯ
Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||