 |
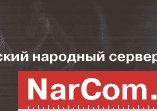 |
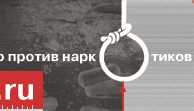 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Аддикции являются обязательными атрибутами цивилизации на протяжении всей ее истории. Их место и роль в социуме как «болезней цивилизации» очень многообразны и многофункциональны. Важно выделить качественно новую роль галопирующими темпами расширяющегося круга зависимостей как системных и эпидемических социальных недугов, бросающих вызов современной цивилизации. П. Сидоров Зависимое поведение человека характеризуется наличием у него психологической и/или физической зависимости от психоактивных веществ (алкоголь, наркотики) либо от определенного вида занятий (азартные игры, Интернет и пр.), принимающей характер неодолимого влечения и нарушающей нормальное функционирование личности. Общеизвестен огромный моральный и материальный ущерб, который наносят обществу пьянство, алкоголизм и наркомания. В последние годы, особенно в молодежной среде, все большее место в структуре зависимого поведения стали занимать формы, не связанные с употреблением психоактивных веществ (например компьютеромания). Эти формы также могут приводить личность к социальной деградации.В основе зависимого поведения лежит феномен аддикции (от англ. addiction — склонность, пагубная привычка). Аддикция представляет собой искусственное изменение своего психического состояния, осуществляемое химическим или нехимическим путем, с целью ухода от реальности. В результате человек начинает существовать в виртуальном, сюрреалистическом мире, не только не решая своих насущных проблем, но и останавливаясь в своем развитии, вплоть до деградации. Классификация аддикций, разработанная Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой (2000), подразделяет их на химические, нехимические и промежуточные формы. Химические аддикции характеризуются наличием патологической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). Согласно Международной классификации психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра, к числу ПАВ относятся: алкоголь, опиаты, каннабиноиды, кокаин, стимуляторы ЦНС, галлюциногены, летучие растворители, седативные и снотворные средства. Нехимические формы включают в себя:
В настоящее время круг нехимических зависимостей существенно расширился за счет отнесения к ним «веселого автовождения» [McBride A.J., 2000], «состояний перманентной войны» и духовного поиска [Постнов В.В., Дереча В.А., Карпец В.В., 2004; Постнов В.В., Дереча В.А., 2004], спортивной, или аддикции упражнений |Murphu М.Н., 1993; Griffiths M.D., 1997; Kjelsasetal., 2003], технологических аддикций к мобильным телефонам и просмотру телепередач [Griffiths M.D., 1995], Интернет- и компьютерных зависимостей [Гоголева А.В., 2002; Войскунский А.Е., 2004; Young K.S., Rodgers R.C., 1998], религиозного, политического, спортивного, национального фанатизма [Менделевич В.Д., 2003]. К промежуточным формам относятся аддикции к еде (нервная анорексия и булимия). Этими же авторами выделен ряд общих для всех аддикций факторов, способствующих их развитию. Сюда относятся:
Наиболее распространенными формами зависимого поведения являются химические аддикции. В данном случае нашей целью является не описание клинических проявлений и методов лечения наркогенных заболеваний (алкоголизм, наркомания), а представление социальных и средовых факторов, вносящих наибольший вклад в их возникновение и развитие. По мнению R. Desjarlais et al. (1995), ведущими социокультуральными факторами зависимости от психоактивных веществ являются: особенности национальной культуры и традиций; социально-экономическая ситуация; реклама потребления ПАВ. Этнокультуральные факторы (первая группа) играют особое значение на этапе формирования первичной (психологической) зависимости от ПАВ. Среди них важнейшее место занимают: сложившееся в культуре каждого народа отношение к употреблению психоактивных веществ; отношение к лицам, злоупотребляющим ими; существующие традиции и стереотипы, связанные с потреблением ПАВ. Все эти факторы обусловлены историческими особенностями существования этносов, их религиозным мировоззрением, уровнем развития культуры. Например, в мусульманских странах алкоголь практически не употребляется, поскольку это запрещено Кораном; напротив, в христианских странах спиртное давно и прочно вошло в культуру, а порицается лишь неумеренность в его употреблении. Что касается России, то в ней алкоголь, к сожалению, всегда занимал слишком большое место в традициях народа. По мнению В.Ю. Завьялова (1988), именно в России наиболее широк круг мотиваций потребления спиртного. К ним относятся:
Следует заметить, что в истории человечества появлялись и исчезали в течение определенного времени тысячи обычаев. Употребление алкоголя — это обычай, который прочно вошел в нашу жизнь, несмотря на то, что во все эпохи и времена люди хорошо знали о скрытых в нем опасных последствиях. Для русской культуры алкогольные обычаи — это исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы употребления спиртных напитков с соответствующими духовными эквивалентами обыденного сознания и мировоззрения. Алкогольные обычаи выполняют две социальные функции: стабилизируют утвердившиеся в данной среде отношения и формы употребления алкоголя и осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений. Вместе с тем воплощением любых общественных традиций на уровне отдельной личности являются ее социальные установки — состояние готовности, базирующееся на опыте и оказывающее влияние на реакции индивида относительно всех объектов и ситуаций, с которыми он связан. Частным случаем социальных установок являются алкогольные установки, регулирующие и опосредующие поведение человека в отношении алкоголя. Они могут быть позитивными, то есть создающими предрасположенность, готовность к употреблению спиртных напитков, или негативными, определяющими воздержание от них. Формирование алкогольных установок (позитивных или негативных) начинается уже в детском возрасте и протекает в направлении, отстаиваемом убеждающей коммуникацией. Переход алкогольных обычаев в установку может осуществляться как осознанно, так и неосознанно. Однако в обоих случаях результат один — превращение обычая в установку влечет за собой автоматизм в ее соблюдении, субъективную потребность в следовании ей, что обусловлено самой природой установки. В дальнейшем складывается словарь мотивов алкоголизации. Если алкогольные установки определяют стратегию поведения, то мотивы — тактику в каждом конкретном случае. В норме можно говорить о первичной «реалистической» мотивации алкоголизации, когда спиртные напитки употребляются по праздникам, при встрече с друзьями, в день рождения и т. д. Мотив — вербализация цели и программы, дающая возможность данному лицу начать определенную деятельность. Реалистическая мотивация алкоголизации предполагает наличие первичной, адекватной в социально-психологическом плане цели (праздники, дни рождения) и вторичной программы, включающей в себя употребление алкоголя. Возникающая при опьянении эйфория не является прямым следствием только интоксикации. Это психическое состояние, формируемое во многом механизмами само- и взаимоиндукции, содержание которого определяется ситуацией и зависит от общего уровня культуры личности. Если человеку под предлогом какой-либо инъекции ввести внутривенно этанол, то можно наблюдать легкое возбуждение и повышение тонуса, сменяемое последующей релаксацией и сонливостью без очерченного эмоционального компонента. В норме эйфория является внутренним (и зависимым) следствием внешних социально-психологических характеристик ситуации. Определенные традиции, удовлетворяющие социальные потребности, могут существовать необычайно долго. Американский антрополог D. Horton (1943) в свое время установил факт, что в первобытных обществах имеет место взаимосвязь между степенью алкоголизации и тревогой за обеспечение себя необходимыми условиями выживания. По мнению автора одной из известных классификаций алкоголизма Е. Jellinek, неправильно было бы объяснять упорную алкоголизацию любого народа только одними функциональными причинами. Совместное потребление алкоголя является не только фактом идентификации с группой, но и служит в какой-то мере удовлетворению потребности солидарности с другими. Теории, пытающиеся выяснить устойчивость обычаев употребления алкоголя людьми с древнейших времен, безусловно, касаются и нашей страны, с определенными особенностями культуры, ее географического положения, климата, общественной психологии, религии. В настоящее время в литературе по профилактике зависимостей появился термин «склонность к злоупотреблению ПАВ». Термин «склонность» (подверженность) впервые был введен в медицину P. Falconer (1965) для выражения индивидуальной врожденной тенденции к развитию или приобретению заболевания, то есть восприимчивости в обычном понимании, с одной стороны, и целой комбинации внешних обстоятельств, которые делают более или менее возможным развитие заболевания, — с другой. Таким образом, склонность к злоупотреблению ПАВ, включая алкоголь и наркотические вещества, — это результат действия всех факторов, имеющих отношение к риску и тяжести заболевания. Различия в склонности к зависимости обусловлены прежде всего генетическим полиморфизмом, влиянием личностных черт характера и воздействиями окружающей среды. Фенотипические проявления, превышающие определенную точку на латентной шкале склонности, обозначаются как диагностические критерии. Чем больше диагностических критериев соответствует ситуации, тем более человек относится к группе риска. В отношении употребления наркотиков ситуация описывается едиными и неменяющимися критериями — да/нет. В отношении употребления алкоголя ситуация несколько усложняется, так как в нашей культуре алкоголь широко употребляется и трудно определить границу между употреблением и злоупотреблением. Кроме того, негативной стороной отношения к спиртному в нашей стране является преимущественное употребление крепких напитков, причем в больших дозах. Естественно, что такие традиции приводят к высокой распространенности алкогольной зависимости среди населения. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация также способствует
формированию химических аддикций. Ее конкретными проявлениями наиболее часто
являются радикальные и стремительные (в историческом масштабе)
социально-экономические реформы, резко изменяющие привычные жизненные
стереотипы; материальное расслоение социальных групп; тяжелое экономическое
положение и безработица; миграция сельских жителей в города, ведущая к их
аккультурации. Согласно данным историко-статистического анализа И.Н. Гурвича
(2000), существует устойчивая связь между уровнем алкоголизации населения и
системными кризисами в России. Так, все четыре системных кризиса, пережитые
страной в XIX—XX вв. (отмена крепостного права, Октябрьская революция По мнению Ц.П. Короленко (1994), социальные детерминанты химических аддикций в бывшем СССР и в современной России существенно различаются. Так, в условиях коммунистического режима предпосылками к формированию наркогенной зависимости были: низкий уровень личной свободы, монотонность каждодневной жизни, дефицит товаров народного потребления, информационный дефицит, преследования людей за их религиозные убеждения, лицемерие в семейном воспитании, социальная толерантность к злоупотреблению алкоголем, разрыв между социальной и личной жизнью. В сегодняшней России основными социальными детерминантами стали: значительные изменения во всех сферах общественной жизни, ее нарастающий темп, исчезновение официальной идеологии, высокий уровень личной свободы, поляризация общества на бедных и богатых, необходимость принимать самостоятельные решения, снижение уровня общественной безопасности. Следует заметить, что существенное значение в формировании зависимости от алкоголя и наркотиков имеют такие факторы, как значительное облегчение доступа наркотиков потребителю, связанное с открытостью границ, а также реклама потребления этих ПАВ. Она может быть как открытой, осуществляемой средствами массовой информации, так и скрытой (например показ сцен алкоголизации или употребления других ПАВ в фильмах и спектаклях, их описание в книгах и журналах). Значительная распространенность алкоголизма в большинстве стран мира заставляет настойчиво искать и пытаться обосновать причины злоупотребления алкоголем. Существует множество различных точек зрения и концепций, связанных с этиологией алкоголизма. В многочисленных научных исследованиях социально-психологических аспектов проблемы алкоголизма выделяется круг социально-психологических вопросов на уровне так называемого институционального взаимодействия людей (личность — общество). Определенная группа причин, как мы отмечали выше, связывается с условиями современной жизни, процессами урбанизации, информационными перегрузками. Стрессовые воздействия оказывают не только миграция населения, но и «социальная мобильность», повышение ритмов жизни, ведущие к повышению психического напряжения, которое люди все в большей мере пытаются снизить с помощью алкоголя и наркотиков. С точки зрения социально-психологических функций алкоголь рассматривается как неадекватный посредник между личностью и обществом. В современном обществе алкоголь, с одной стороны, нередко выступает в роли универсального компенсатора, как средство снятия напряжения, обусловленного явлениями социального порядка (тяжелый физический труд, нестабильность общества, безработица); с другой — становится средством ухода от реальной действительности в форме эскапизма (индивидуального психологического бегства личности от гнетущей социальной реальности). Условно можно выделить две основные группы причин, способствующих развитию алкоголизма: причины, кроющиеся в аномалиях личности и особенностях организма индивида (наследственные, конституциональные, обменные, психологические и др.), и причины, заложенные в жизни общества. Достоверно установлено, что распространенность алкоголизма коррелирует с характером общественного строя, его социальными особенностями и «культурно-бытовыми схемами». Считается, что алкоголизму благоприятствуют материальная обездоленность, отсутствие постоянной работы и общая напряженность социальных отношений. Однако основную причину алкоголизма многие авторы видят в утрате общественного контроля над алкогольными эксцессами. Урбанизация культуры привела к тому, что вне дома люди стали пить больше, чем дома (в связи с концентрацией множества людей на промышленных предприятиях, сокращением домашнего производства спиртных напитков и др.). Социальным фактором, способствующим развитию алкоголизма, является урбанизация в связи с широкими социальными контактами, передачей дурных навыков, нарушением нравственного контроля в семье и др. Многие зарубежные авторы считают, что с повышением материального благосостояния пьянство не уменьшается, а растет. Однако «алкоголизм от сытости» отличается большей контролируемостью поведения и относительной сохранностью социальной адаптации, чем «алкоголизм от бедности», характеризующийся существенной прогредиентностью и асоциальностью. D. Henkel (1987), сопоставив группы безработных и работающих больных алкоголизмом, показал, что развитие заболевания у безработных в большинстве случаев было связано с жизненными проблемами (отсутствие социальной перспективы, психические нагрузки, изоляция и др.), они чаще и в больших количествах употребляли алкоголь, чаще обнаруживали похмелье и попытки суицидов, чаще прибегали к наркотикам и не имели семьи. Развитие алкоголизма имеет как прямую, так и обратную связь с проблемой безработицы. Существуют теории, рассматривающие алкоголизм как симптом различных форм невроза, когда лица с невротическим состоянием, принимая алкоголь, иллюзорно освобождаются от неуверенности, тревоги, неприспособленности. Многие исследователи расценивают употребление алкогольных напитков как один из способов снять напряжение при нарушениях адаптационных механизмов, как средство подавить чувство напряжения, страха, вины. Наиболее четко и образно выразил эту мысль Е. Jellinek (1960). Анализируя роль социальных факторов в развитии алкоголизма, он пишет, что общество подавляет желания личности (путем прямого запрета, воспитания и другими мерами), если эти желания асоциальны. Подавление желания вызывает напряжение, тревогу, чувство вины. Некоторые способы устранения напряжения легальны и допускаются обществом, поскольку не представляют социальной опасности. Например, танцы ослабляют сексуальное напряжение, спорт удовлетворяет стремление к агрессии, посещение театра позволяет временно жить в ином мире, коллекционирование удовлетворяет потребность в обладании. Лучше всего снимает напряжение, отмечает Е. Jellinek, ослабление «правосудия», которым является наше сознание. В частности, алкоголь как депрессант центральной нервной системы способствует расслаблению и снижает контроль. Продуктивным представляется описание механизмов формирования аддиктивного образа жизни, выделенных на модели ранней алкоголизации и наркотизации подростков и молодежи, но в равной мере применимых к любым формам аддиктивного поведения и к любой половозрелой категории населения [Сидоров П.И., 1995, 2005].
Перейдем к обсуждению относительно новых для нашей страны нехимических аддикций. В первую очередь, рассмотрим проблему гемблинга. Под этим термином понимается патологическая склонность к азартным играм. Следует заметить, что этот феномен выделен в качестве отдельной диагностической категории в разделе «Расстройства привычек и влечений» в Международной классификации психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра и «заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделяется должного внимания обязанностям в этой сфере». Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990) выделяют ряд признаков, характерных для азартных игр как одного из видов аддиктивного поведения. К ним относятся: 1) постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры; 2) изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, связанных с игровыми комбинациями; 3) «потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей; 4) состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очередного участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают состояния абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной болью, нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением концентрации внимания; 5) характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление к все более высокому риску; 6) периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся игровым «драйвом», все преодолевающим стремлением найти возможность участия в азартной игре; 7) быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) гемблинг возобновляется. Страсть к азартным играм всегда в той или иной степени встречалась в обществе. В частности, психология «игрока» была блестяще описана классиками русской литературы А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым. В годы советской власти азартные игры подвергались официальному запрету и осуждению. По мнению Л.Н. Юрьевой (2002), широкому распространению этой формы зависимого поведения в современной России и других странах постсоветского пространства способствует то, что страсть к легкой наживе стала всеобщей, морально допустимой, общественно одобряемой и интенсивно пропагандируемой СМИ и другими инструментами рекламы. Кроме того, к резкому повышению распространенности азартных игр ведет ситуация социально-экономического кризиса и нестабильности. Примером тому служат данные, полученные в США в период «великой депрессии», когда страх перед проигрышем отступал перед страхом жизни. В нашей стране, согласно результатам исследования, проведенного журналом «Эксперт», 80% опрошенных представителей среднего класса были готовы пойти на риск участия в азартных играх, чтобы добиться желаемого обогащения [Клин Ж., 2000]. Основными мотивами вовлечения в азартные игры и последующего формирования гемблинга являются, в первую очередь, потребность в преодолении собственных психологических и эмоциональных проблем, а также попытка ликвидировать свои финансовые долги и стремление к легкой наживе в целом. С психопатологической точки зрения гемблинг является расстройством влечений, направленным на уход от реальной действительности, при этом неадекватная вера в выигрыш отражает подсознательное желание неограниченного удовлетворения своих потребностей. Игра представляет собой своеобразную психологическую защиту, помогающую уйти от сложностей жизни и необходимости предпринимать конкретные действия. К сожалению, мы не располагаем данными о количестве лиц, страдающих гемблингом, в нашей стране. Поэтому можно сослаться лишь на сведения зарубежной литературы, согласно которым в США более 5 млн человек относятся к патологическим игрокам, а еще 15 млн — к группе риска. По данным R.A. Volberg (1996), в США 5% населения относится к аддиктивным игрокам, жизнь которых полностью зависит от игровых автоматов. В других индустриально развитых странах (Италия, Франция) патологической страстью к азартным играм страдает 2—3% населения. Можно предположить, что в России число таковых, по крайней мере, не меньше. Американский исследователь R.L. Custer (1984) выделил три стадии развития гемблинга: выигрышей, проигрышей и разочарования. Стадия выигрышей характеризуется следующими признаками: случайная игра, частые выигрыши, воображение предшествует и сопутствует игре, более частые случаи игры, увеличение размера ставок, фантазии об игре, очень крупный выигрыш, беспричинный оптимизм. Для стадии проигрышей характерны: игра в одиночестве, хвастовство выигрышами, размышления только об игре, затягивающиеся эпизоды проигрышей, неспособность остановить игру, одалживание денег на игру, ложь и сокрытие от друзей своей проблемы, уменьшение заботы о семье или супруге, уменьшение рабочего времени в пользу игры, отказ платить долги, изменения личности — раздражительность, утомляемость, необщительность, тяжелая эмоциональная обстановка дома, очень большие долги, созданные как законными, так и незаконными способами, неспособность оплатить долги, отчаянные попытки прекратить играть. Признаками стадии разочарования являются: потеря профессиональной и личной репутации, значительное увеличение времени, проводимого за игрой, и размера ставок, удаление от семьи и друзей, угрызения совести, раскаяние, ненависть к другим, паника, незаконные действия, безнадежность, суицидальные мысли и попытки, арест, развод, злоупотребление алкоголем, эмоциональные нарушения, уход в себя. В.В. Зайцев и А.Ф. Шайдулина (2003) описали развитие фаз, составляющих так называемый игровой цикл, понимание которого важно для формирования психотерапевтических стратегий. Фаза воздержания характеризуется уходом от игры из-за отсутствия денег, давления микросоциального окружения, подавленности, вызванной очередной игровой неудачей. Фаза «автоматических фантазий» — учащаются спонтанные фантазии об игре. Гемблер проигрывает в своем воображении состояние азарта и предвкушение выигрыша, вытесняет эпизоды проигрышей. Фантазии возникают спонтанно или под влиянием косвенных стимулов. Фаза нарастания эмоционального напряжения. В зависимости от индивидуальных особенностей возникает тоскливо-подавленное настроение, раздражительность, тревога. Иногда это настроение сопровождается усилением фантазий об игре. В ряде случаев оно воспринимается пациентом как бессодержательное и даже направленное в сторону от игры и замещается повышением сексуального влечения или интеллектуальными нагрузками. Фаза принятия решения играть. Решение приходит двумя путями: а) пациент под влиянием фантазий в «телеграфном стиле» планирует способ реализации своего желания. Это «очень вероятный для выигрыша», по мнению гемблера, вариант игрового поведения. Характерен для перехода первой стадии заболевания во вторую; б) решение играть приходит сразу после игрового эпизода. В его основе лежит иррациональное убеждение в необходимости отыграться. Этот механизм характерен для второй и третьей стадий заболевания. Фаза вытеснения принятого решения. Интенсивность осознаваемого больным желания играть уменьшается, и возникает «иллюзия контроля» над своим поведением. В это время может улучшиться экономический и социальный статус гемб-лера. Сочетание этих условий приводит к тому, что пациент без осознаваемого риска идет навстречу обстоятельствам, провоцирующим игровой срыв (большая сумма денег на руках, прием алкоголя, попытка сыграть для отдыха и т. д.). Фаза реализации принятого решения. Для нее характерно выраженное эмоциональное возбуждение и интенсивные фантазии о предстоящей игре. Часто гем-блеры описывают это состояние как «транс», «становишься как зомби». Несмотря на то, что в сознании пациента еще возникают конструктивные возражения, они тут же отметаются иррациональным мышлением. У игрока доминируют ложные представления о возможности контролировать себя. Игра не прекращается, пока не проигрываются все деньги. Затем следует фаза воздержания и начинается новый цикл. Следует особо отметить, что лица с патологической склонностью к азартным играм нуждаются в квалифицированной психиатрической помощи с акцентом на психотерапевтические и психосоциальные методы лечения. Другой приметой нашего времени стало появление такого вида поведенческой зависимости, как компьютерная аддикция. Ее возникновение напрямую связано с огромным научно-техническим достижением — массовой компьютеризацией большинства сфер нашей жизни. Благодаря этому достижению совершен буквально прорыв в будущее, осуществлены небывалые по масштабам научные проекты, да и в быту персональный компьютер стал неотъемлемой частью нашего существования. Вместе с тем понадобилось не так уж много времени, чтобы проявились и негативные стороны взаимодействия человека и компьютера. По материалам исследований Л.П. Гурьевой (1993), к ним относятся следующие: — снижение интеллектуальных возможностей при решении элементарных задач. Так, использование некоторых функций компьютера, например, «проверка орфографии», «математические действия», препятствует усвоению элементарных школьных знаний; — снижение гибкости познавательных процессов; — чрезмерная психическая вовлеченность в работу или в игры с компьютером; — деформация личностной структуры; — появление деструктивных форм поведения. Хотелось бы обратить особое внимание на параметр «чрезмерной психической вовлеченности», в наибольшей степени способствующий развитию компьютерной аддикции. Ее сутью является появление у человека патологической, непреодолимой тяги к использованию компьютера, в частности Интернета. У таких людей с компьютерной зависимостью стирается грань между реальной и виртуальной жизнью, причем последняя становится более значимой, чем реальная. Компьютерной зависимости наиболее подвержены подростки и молодые люди мужского пола. В подтверждение этого можно привести данные S. Fisher (1994), согласно которым в развитых странах число школьников с компьютерной аддикцией составляет 6%. В одной из наиболее технически развитых стран — Японии — уже описан новый психопатологический синдром «отаку», характеризующийся выраженными нарушениями личностного развития подростков и юношей, наступившими вследствие их патологического погружения в мир виртуальной реальности. В постсоветских странах, несмотря на меньший по сравнению с ведущими странами мира уровень компьютеризации, заболеваемость этим видом аддикции растет еще более высокими темпами. Так, по результатам обследования школьников г. Одессы (Украина), доля лиц, страдающих компьютероманией, составила 15,5% [Мельник Э.В., 1998]. Современные классификации компьютерной зависимости выделяют два основных ее вида: компьютероманию и интернет-зависимость. Начнем с компьютеромании — патологической зависимости от работы с компьютером. Отечественными исследователями Н.И. Алтуховым и К.Ю. Галкиным (2000) описаны основные клинические проявления данной аддикции.
Еще более распространенным видом компьютерной аддикции является интернет-зависимость, наиболее полно описанная в нашей литературе В.А. Буровой и В.И. Есауловым (2000). Согласно данным авторов, к числу основных мотиваций ухода от реальности с помощью Интернета относятся: анонимное общение с людьми, реализация недостижимых в реальной жизни фантазий, возможность быть самим собой, отбросив моральный и этический контроль; отождествление себя с желаемыми персонажами, неограниченный выбор собеседников и их быстрая смена в любом уголке мира, неограниченный доступ к любой информации, ощущение собственного могущества. Предвестниками интернет-зависимости являются навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту, увеличение времени, проводимого в Сети, и эйфорическое состояние перед очередным онлайн-сеансом. Этими же авторами разработаны критерии диагностики интернет-зависимости, согласно которым заболевание может быть диагностировано при наличии трех или более из перечисляемых ниже признаков, постоянно присутствующих в течение последних 12 месяцев. Первая группа симптомов характеризуется изменениями толерантности и определяется постоянно увеличивающейся потребностью во все большем количестве времени работы в Сети для достижения удовлетворения, а также его снижением от пребывания в Сети в течение того же промежутка времени, что и ранее. Вторая фуппа симптомов характеризует феномен абстиненции и включает в себя симптомы, возникающие в период от нескольких дней до одного месяца после прекращения (уменьшения длительности) работы в Сети. Сюда входят: психомоторное возбуждение, тревога, навязчивые мысли и фантазии об Интернете, произвольные или непроизвольные «печатающие» движения пальцев рук. Наличие хотя бы двух таких симптомов служит причиной нарушений социального функционирования пациента. Возобновление же работы Сети способствует исчезновению или уменьшению симптомов абстиненции. Другими симптомокомплексами интернет-зависимости являются: — периоды работы в Сети оказываются более длительными и/или частыми, чем изначально планировалось; — наличие непреодолимого желания и безуспешные попытки ограничить работу в Интернете; — увеличение количества времени, посвященного имеющей отношение к Интернету деятельности; — прекращение или резкое сокращение других видов деятельности (семейных, служебных, развлекательных); — продолжение работы в Сети, несмотря на появление социально-психологических проблем (депривация сна, супружеские проблемы, пренебрежение служебными обязанностями и пр.). М. Orzack (1998) выделила следующие психологические и физические симптомы, характерные для интернет-зависимости. Психологические симптомы:
Физические симптомы:
К. Young (1998) охарактеризовала пять основных типов интернет-зависимости: 1) обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности); 2) компульсивная навигация www, поиск в удаленных базах данных; 3) патологическая привязанность к опосредствованным Интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 4) зависимость от социальных применений Интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх или телеконференциях, что в итоге может привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными; 5) зависимость от «киберсекса», то есть от порнографических сайтов в Интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых группах «для взрослых». Распространенность этого расстройства составляет от 1 до 5% населения, причем более подвержены ему гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования, нежели специалисты по компьютерным сетям [Griffiths M.D., 2000]. Таким образом, оба вида компьютерной аддикции отвечают всем клиническим критериям патологической зависимости и на полном основании могут быть отнесены к поведенческим расстройствам, требующим специализированной психиатрической помощи. Существует несколько видов аддикций отношений: «по интересам», любовные, избегания, сексуальные, — связанных между собой. У них общие предпосылки возникновения: проблемы с самооценкой, неспособность любить себя, трудности в установлении функциональных границ между собой и другими. Поскольку такие лица не могут установить границы своего «я», то у них отсутствует способность к реальной оценке окружающих. Для этих людей существуют проблемы контроля — они позволяют контролировать себя или пытаются контролировать других. Характерны навязчивость в поведении, в эмоциях, тревожность, неуверенность в себе, импульсивность действий и поступков, проблемы с духовностью, трудность в выражении интимных чувств [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000]. В чистом виде эта аддикция характеризуется привычкой человека к определенному типу отношений. Аддикты отношений создают «группу по интересам». Члены этой группы постоянно и с удовольствием встречаются, ходят друг к другу в гости, где проводят много времени. Жизнь между встречами сопровождается постоянными мыслями о предстоящем свидании с друзьями. Следует отметить, что привязанность человека к определенной группе может перейти в аддикцию отношений. Реабилитационные терапевтические сообщества, такие как АА (анонимные алкоголики), АН (анонимные наркоманы) и др., при всей безусловной пользе в плане воздержания от приема ПАВ делают их членов аддиктами общения в данном сообществе. Выход из сообщества, как правило, заканчивается рецидивом [Егоров А.Ю., 2005]. Любовная аддикция — это аддикция отношений с фиксацией на другом человеке, для которой характерны отношения, возникающие между двумя аддиктами. Такие отношения называют соаддиктивными, или созависимыми. Наиболее характерные соаддиктивные отношения развиваются у любовного аддикта с аддиктом избегания. При таких отношениях на первый план выступает интенсивность эмоций и их экстремальность как в положительном, так и в отрицательном отношении. В принципе созависимые отношения могут возникнуть между родителем и ребенком, мужем и женой, друзьями, профессионалом и клиентом и т. д. Признаки любовных аддикции, описанные Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой (2000), заключаются в следующем: 1. Тратится непропорционально много времени и внимания на человека, на которого направлена аддикция. 2. Аддикт находится во власти переживания нереальных ожиданий в отношении другого человека, находящегося в системе этих отношений, без критики к своему состоянию. 3. Любовный аддикт забывает о себе, перестает о себе заботиться и думать о своих потребностях вне аддиктивных отношений. Это распространяется и на отношение к родным и близким. У аддикта имеются серьезные эмоциональные проблемы, в центре которых стоит страх, который он старается подавить. Признаки аддикции избегания: 1. Уход от интенсивности в отношениях со значимым для себя человеком (любовным аддиктом). Аддикт избегания проводит время в другой компании, на работе, в общении с другими людьми. Он стремится придать отношениям с любовным аддиктом «тлеющий» характер. Налицо амбивалентность отношений с любовным аддиктом — они важны, но он их избегает. Он не раскрывает себя в этих отношениях. 2. Стремление к избеганию интимного контакта с использованием техник психологического дистанцирования. На уровне сознания у аддикта избегания находится страх интимности. Аддикт избегания боится, что при вступлении в интимные отношения он потеряет свободу, окажется под контролем. На подсознательном уровне это страх покинутости. Он приводит к желанию восстановить отношения, но держать их на дистантном уровне. Любовный аддикт и аддикт избегания тянутся друг к другу вследствие «знакомых» психологических черт. Несмотря на то, что черты, привлекающие у другого, могут быть неприятными, вызывать эмоциональную боль, они привычны с детства и напоминают ситуацию переживаний детства. Возникает влечение к знакомому. Оба вида аддиктов обычно не увлекаются неаддиктами. Они кажутся им скучными, непривлекательными; они не знают, как себя с ними вести [Егоров А. Ю., 2005]. Сексуальные аддикции относятся к скрытым, замаскированным аддикциям. Это связано с социальными табу на обсуждение данной тематики. Чем более закрыта, табуирована эта тематика, тем меньше выявляется аддикций. Таким образом, сексуальные аддикции всегда должны рассматриваться в транскульту-ральном плане. Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2000) подраздляют сексуальные аддикции на ранние, которые начинают формироваться очень рано на фоне общего аддиктивного процесса, и поздние, пришедшие на смену другой формы аддиктивного поведения. Признаками сексуальной аддикции являются:
В обзоре J. Schneider, R. Irons (2001) обобщены данные многих исследователей о сосуществовании сексуальной аддикции с другими химическими и нехимическими зависимостями (от 50 до 75% случаев). Работоголизм является бегством от реальности посредством изменения своего психического состояния, которое в данном случае достигается фиксацией на работе. Причем работа не представляет собой того, что она выполняет в обычных условиях: работоголик не стремится к работе в связи с экономической необходимостью, работа не является и одной из составных частей его жизни — она заменяет собой привязанность, любовь, развлечения, другие виды активности [Короленко Ц.П., 1993]. Одной из важных особенностей работоголизма является компульсивное стремление к постоянному успеху и одобрению со стороны окружающих. Аддикт испытывает страх потерпеть неудачу, «потерять лицо», быть обвиненным в некомпетентности, лености, оказаться хуже других в глазах начальства. С этим связано доминирование в психологическом состоянии чувства тревоги, которое не покидает работоголика ни во время работы, ни в минуты непродолжительного отдыха, который не бывает полноценным из-за постоянной фиксации мыслей на работе. Работоголик становится настолько фиксированным на работе, что постоянно отчуждается от семьи, друзей, все более замыкаясь в системе собственных переживаний. G. Porter (1968) выделяет такие характерные для любого аддикта свойства работоголика, как ригидное мышление, уход от действительности, прогрессирующую вовлеченность и отсутствие критики. В современной науке о спорте принято различать спорт для здоровья (или то, что раньше называлось физической культурой) и спорт высших достижений. Кроме того, следует выделить и экстремальные виды спорта. Именно спорт высших достижений и экстремальный спорт несут в себе наибольший аддиктив-ный потенциал. В последние десятилетия появляются публикации, посвященные аддикции упражнений, или спортивной аддикции. В обзоре, посвященном аддикции упражнений, М. Murphy (1993) указывает на три психофизиологических объяснения возникновения аддикции упражнений: термогеническая гипотеза, катехолами-новая гипотеза и эндорфиновая гипотеза. Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения увеличивают температуру тела, что снижает тонус мышц и снижает соматическую тревогу. Катехоламиновая и эндорфиновая гипотезы находятся в русле современных воззрений на нейрофизиологическую и нейро-фармакологическую природу возникновения всех химических зависимостей. В современной литературе имеются описания клинических случаев возникновения спортивной аддикции при занятиях разными видами спорта, включая то, что мы называем физкультурой. Так, в работе Е. Kjelsas et al. (2003) с помощью специального опросника на аддикцию упражнений было показано, что у женщин существует прямая зависимость между количеством часов в неделю, уделяемых спорту, и риском развития зависимости. Что касается занятий экстремальными видами спорта, то следует признать, что это возможный путь создания социально приемлемой формы зависимости при проведении профилактической и реабилитационной работы у детей и подростков с аддиктивным поведением. Вместе с тем следует помнить, что спортивная аддикция, как и любая другая зависимость, легко может менять форму и переходить в другую, в том числе и химическую. Вероятно, именно с этим связан высокий процент алкоголизма и наркомании среди бывших спортсменов. Поэтому экстремальный спорт может быть признан альтернативой химической зависимости, но альтернативой, таящей в себе определенную опасность [Егоров А. Ю. и соавт., 2004]. Аддикция к трате денег была описана и типизирована W. McElrou и соавт. (1995). Авторы предложили четыре критерия этой аддикции, причем для диагностики достаточно наличия одного из них:
A. Faber и М. O′Guinn (1992) сообщают, что этим видом аддикции страдает 1,1% населения, средний возраст составляет 39 лет. Аддикция к трате денег начинается обычно в возрасте 30 лет, ею страдают преимущественно женщины (92% из всех аддиктов). R. Miltenberger et al. (2003) сообщают, что аддикция к покупкам начинается в более молодом возрасте — средний возраст обследованных ими женщин составил 17,5 года. D. Black (1996) приводит данные, что эта аддикция встречается у 2—8% в общей популяции, из которых женщины составляют 80-95%. Ургентная аддикция проявляется в привычке находиться в состоянии постоянной нехватки времени. Пребывание в каком-то ином состоянии способствует развитию у человека чувства дискомфорта и отчаянья [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 20001. Духовный поиск как форма нехимической аддикции была описана В.В. Постновым и В.А. Деречей (2004) на основании наблюдений за больными алкоголизмом, находившимися в ремиссии и в процессе психотерапевтических занятий пытавшихся освоить различные духовные практики. При этом никто из больных не связывал эти занятия с реабилитационной программой, считая свои проблемы с алкоголизмом «уже решенными». Все больные по несколько раз до алкогольного срыва успели поменять направление «духовных поисков». Еще одной способностью этих больных был неизбежный срыв ремиссии после этапа выраженных расстройств адаптации в виде нарастания межличностных конфликтов, нервозности, раздражительности и вспышек немотивированной агрессии. Направления духовного поиска были самые различные: группы личностного роста, холотропное дыхание, телесноориентированная терапия, группы встреч, эзотерические и религиозные знания. Состояние перманентной войны как форма аддиктивного поведения было описано теми же авторами у больных алкоголизмом ветеранов боевых действий, находившихся в состоянии ремиссии. Будучи в ремиссии, эти лица стремились к созданию опасных ситуаций, неоправданного риска («хотелось встряхнуться, давно не воевал»). В этих ситуациях больные нередко совершали асоциальные и опасные криминальные действия. К промежуточным формам аддикции относятся переедание и голодание. Первая форма распространена чаще. В литературе можно встретить расширительное толкование пищевых аддикций, куда относят и нервную анорексию, и булимию. Существует точка зрения, что пищевые расстройства по своей сути есть исключительно женский вариант аддикции, в то время как химическая зависимость и гемблинг — более мужские. Однако, несмотря на то, что расстройства пищевого поведения (нервная анорексия и булимия) действительно значительно чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, такая точка зрения не выдерживает критики, поскольку фактически миллионы женщин страдают от химической зависимости, а случаи пищевых нарушений встречаются и у мужчин. Кроме того, следует заметить, что нельзя смешивать расстройства пищевого поведения и пищевые аддикции. По мнению А.Ю. Егорова (2005), нервная анорексия и булимия являются иными психопатологическими феноменами, нежели аддикция к еде. Причина нервной анорексии — это, как правило, дисморфофобические переживания, связанные с недовольством собственной внешностью, в том числе и излишним весом. «Недостатки фигуры», с точки зрения больного, настолько бросаются в глаза окружающим, что они всячески «дают понять», насколько они уродливы и отвратительны. Булимия встречается как психопатологический симптом в рамках разнообразных психических расстройств: органических заболеваний головного мозга, умственной отсталости, шизофрении и т. д. В основе же возникновения пищевой аддикции, как и любой другой, лежит положительное эмоциональное подкрепление, которое вызывается перееданием или голоданием. Знание всей панорамы и прогнозирование вариантов аддикции необходимы в профилактике и лечебно-реабилитационной работе, когда у зависимой личности можно лишь усиливать просоциальную направленность поведенческих стратегий, усиливая акценты на работе, духовности, религии, спорте, отношениях и т. п., добиваясь устойчивой ремиссии в рамках экологии зависимой судьбы. Максимально обобщая сказанное, в социогенезе зависимостей можно выделить четыре уровня причинных комплексов [Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., 1990; Иванец Н.Н., 1992; Пятницкая И.Н., 1994; Дмитриева Т.Б., Положий Б.С., 2003; Сидоров П.И., 2005 и др.]: 1) макросоциальный, включающий особенности социально-экономического положения в стране и социальной политики государства; 2) мезосоциальный, включающий особенности профессиональной деятельности и психологический климат трудового или учебного коллектива, неформальной молодежной группы; 3) миллисоциальный, включающий особенности обычаев, традиций и стиля жизни семьи как особого по значимости института социализации личности; 4) микросоциальный, или личностный, включающий особенности преимущественно нравственно-ценностной и мотивационно-установочной сфер. Макросоциальный уровень:
Мезосоциальный уровень:
Миллисоциальный уровень:
Микросоциальный уровень:
Успешные поведенческие стратегии в экологии судьбы возможны только при адекватной оценке всего многообразия влияний и отношений. Любое поведение чем-то предопределено и от чего-то зависимо. В буквальном смысле слова независимого поведения нет, есть лишь различные модальности и вектора, степени и уровни зависимости. Предметом клинической психологии и психиатрии зависимое поведение как вариант отклоняющегося становится при следующих характеристиках: непреодолимой подчиненности чужим интересам; чрезмерной фиксации внимания на определенных видах деятельности или предметах; снижении способности выбирать и контролировать свое поведение; увеличении толерантности; утрате альтернативных интересов; пренебрежении осложнениями и вредными последствиями; появлении абстинентного синдрома. В настоящее время механизмы этиопатогенеза и клиническая феноменология зависимостей отличаются большой дискуссионностью. Кратко и обобщенно в исторической динамике можно выстроить следующую эволюцию взглядов на концепции зависимого поведения [Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., 1990; Пятницкая И.Н., 1994; Анохина И.П., 1996; Иванец Н.Н., 1998; Бочков Н.П. и соавт., 2003; Дмитриева Т.Б., Положий Б.С, 2003; Сидоров П.И., 2005]. Социально-гигиеническая концепция объясняет природу зависимостей условиями жизни и взаимоотношениями людей, характером обычаев социальной микросферы, производственных и экономических отношений. Социально-психологическая концепция трактует зависимости как неспецифические показатели социально-психологической несостоятельности личности, неразвитости ее нравственно-ценностной сферы, как показатель невключенности человека в социально активную жизнь. Генетическая концепция на основании клинико-генеалогических и близнецовых методов исследования достаточно убедительно показывает роль наследственной предрасположенности. Молекулярно-биологические исследования показали, что индивидуальная предрасположенность к алкоголизму и наркомании генетически детерминирована и определяется особенностями функций «системы подкрепления» мозга, различной организацией деятельности катехоламиновой системы и ее контроля со стороны генетического аппарата. Генетотрофическая концепция пытается объяснить зависимое поведение наследственно обусловленными нарушениями обмена веществ, в основе которых лежит необычайно высокая потребность в некоторых необходимых для организма пищевых продуктах (витамины группы В, ненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы и т. д.). Этаноловая (наркоманическая) концепция главную причину алкоголизма и наркомании усматривает в специфическом действии на организм самого алкоголя и наркотика. Согласно этой концепции, людей разделяют на «алкоголе-устойчивых» и «наркоустойчивых», «алкоголенеустойчивых» и «нарконеустойчивых». Адренохромная концепция объясняет пристрастия нарушениями катехоламинового обмена, приводящими к постоянному психическому напряжению. Психическая напряженность зависит от соотношения в организме адреналина и продуктов его распада — адренохрома и адренолютина, а также предшественников, то есть чем больше в организме адреналина и меньше его метаболитов, тем сильнее выражено напряжение, снимаемое той или иной зависимостью. Эндокринопатическая концепция сводится к тому, что у зависимых личностей имеет место первичная слабость эндокринной системы, и для адекватной эмоциональной реакции необходима ее постоянная искусственная стимуляция, особенно в экстремальных условиях. Алкоголь и наркотики, иные формы зависимого поведения, являясь такими стимуляторами и воздействуя на гипофиз, активируют эндокринную систему и таким образом облегчают выход личности из психотравмирующей ситуации. Психопатологическая концепция подчеркивает роль психических, преимущественно характерологических, особенностей личности в этиологии зависимости. Правда, не всегда бывает возможно однозначно оценить — первичны или вторичны эти особенности. Биоэнергетическая концепция исходит из того, что алкоголь и токсиканты действуют прежде всего на водно-ионную структуру организма, нарушая ее стабильность. При хронической интоксикации возникает патологическая архитектоника водно-ионных систем с резонансной спектральной памятью. Резонансная настройка биоэнергетической системы требует постоянного употребления алкоголя и наркотиков, что приводит к потере устойчивости биоэнергетических структур организма человека и физической зависимости. Системная концепция механизмов зависимости от различных ПАВ исходит из того, что биологические механизмы синдрома зависимости идентичны, независимо от химической принадлежности веществ, вызывающих его развитие, и связаны со специфическими нарушениями функций дофаминовой нейроме-диаторной системы, нарастающими при повторных и регулярных приемах ПАВ. Приведенное многообразие взглядов подчеркивает необходимость дальнейших мультидисциплинарных исследований зависимого поведения. Сегодня можно уверенно сказать, что аддикции являются обязательными атрибутами цивилизации на протяжении всей ее истории. Их место и роль в социуме как «болезней цивилизации» очень многообразны и многофункциональны. Важно выделить качественно новую роль галопирующими темпами расширяющегося круга зависимостей как системных и эпидемических социальных недугов, бросающих вызов современной цивилизации. Человечество начинает вступать в принципиально новую эпоху мировой цивилизации — эпоху выживания [Агаджанян Н.А., 1998], когда под угрозой оказываются не только духовная и материальная культура, но и само существование человеческой цивилизации. На протяжении мировой истории человечество пережило множество катастроф геологического, природного и социального характера. Однако человеческая память очень недолговечна и привыкла воспринимать феномен апокалипсиса как абстрактную модель, ведь катастрофы были неоднократно, но человечество выжило. Как не вспомнить здесь Гегеля, который в свое время с грустью говорил о том, что единственный урок, который можно извлечь из истории народов, — это то, что сами народы никогда не извлекают уроков из своей истории. Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||