 |
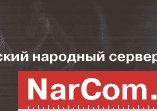 |
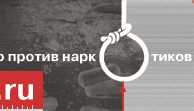 |
|
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Описание щадящей семейной возрастной всеобъемлющей терапии, направленной на решение связанных с наркотиками проблем подростков. Прослеживается эволюция модели, основанная на принципах развития вмешательства. Такой подход позволяет осуществлять практические меры, соответствующие определенным стадиям лечения. Г. Лиддл, А. Хоуг ВведениеКонечная цель исследований в области психотерапии — выявление моделей вмешательства и терапевтических стратегий с доказанной эффективностью применительно к конкретному нарушению и по отношению к определенной популяции. Первый ша к достижению этой цели — установление эффективности лечения, что говорит о способности вмешательства дать ожидаемые положительные результаты при оптимальном сочетании выборки участников, организации лечения и его осуществления (Hoagwood et al., 1995; Seligman, 1996). Определение эффективности не является легким делом. Последние усилия в направлении установления конкретных критериев эффективности лечения (Chambless, 1996; Chambless & Hollon, 1998; Crits-Christoph, 1996; Task Force on Promotion and Dissemination of Psychological Procedures, 1995) подчеркивают следующие минимально необходимые характеристики: 1) наличие руководства по вмешательству, выделяющего предполагаемые компоненты достигаемых в результате лечения изменений и содержащего указания на необходимую квалификации терапевта и методику применения модели; 2) опробование лечения на точно определенной выборке из популяции, для которой это лечение предназначено; 3) оценка терапевтических процессов и исходов с использованием инструментов, обладающих установленными психометрическими качествами и клинической применимостью; 4) контролируемое исследование, включающее сравнение результатов лечения на адекватных контрольных группах при рандомизированных клинических испытаниях. Движение в сторону кодификации критериев эффективности лечения, хоть и подвергается критике (например, Garfield, 1996), по крайней мере, активизирует усилия исследователей в рассмотрении собственных методов, выявлении пробелов в базовых научных знаниях и озабоченности прикладными аспектами, а также в отношении применения эффективных методов в стандартных клинических условиях (Borkovec & Castonguay, 1998; Chambless & Hollon, 1998). За два последние десятилетия в области детской и подростковой психотерапии достигнут большой прогресс в выявлении эффективности основанных на эмпирических данных видов лечения самых разнообразных нарушений (Durlak et al., 1995; Kazdin, 1991; Weiss et al., 1995). Общее мнение, высказанное в ряде посвященных метаанализу обзоров, сводится к тому, что в целом детская и подростковая психотерапия обладают выраженным положительным эффектом (Casey & Berman, 1985; Kazdin et al., 1990; Weiss etal., 1987, 1995). Более того, А.Э. Каздин и Дж. Р.Вейс (Kazdin, Weiss, 1998) выделяют несколько специфических подходов, обладающих впечатляющей исследовательской базой, которые могут быть оценены как соответствующие критериям эффективной терапии. В это число входят когнитивно-поведенческая терапия детских страхов, тренинг для родителей подростков, отличающихся оппозиционным и агрессивным поведением, и систематическая семейная терапия подросткового антисоциального поведения. Нет сомнений в том, что контролируемые исследования эффективности чрезвычайно обогатили эмпирическую базу детской и подростковой психотерапии, однако А.Э. Каздин (Kazdin, 1994) напоминает, что оценка эффективности представляет собой лишь один из этапов многоаспектного процесса, необходимого для достижения главной цели — выявления эффективных методов лечения. Этот же автор убедительно показывает, что, поскольку исследования в области детской и подростковой психотерапии находятся на сравнительно ранней стадии, очень полезным может оказаться систематический подход к разработке и оценке эффективных методов лечения; другими словами, накоплению эмпирического опыта будет весьма способствовать строгое соблюдение плана развития вмешательства. Такой план должен предусматривать последовательные шаги, направленные на создание и проверку эффективных видов лечения, соответствующих достигнутым научным стандартам. Применительно к сфере аддикции такие стандарты сформулированы в так называемой технологической модели исследования методов лечения (Carrol, Rounsaville & Keller, 1991; Carrol et al., 2000). Следующее плану развитие вмешательства обладает следующими привлекательными качествами: 1) наличием общей шкалы измерений для оценки эффективности разных видов терапии различных нарушений; 2) предоставлением исследователям указаний на то, как внести действенный применимый и предпочтительный вклад в существующие знания′ Этапы развития лечения, которые предлагает А.Э.Каздин (Kazdin, 1994), представлены в таблице 1. Ведущую роль играет развитие теории, включающее концептуализацию подвергающейся лечению дисфункции и испытываемой модели. Продуктивное развитие теории содействует формированию процесса лечения двояко: оно способствует разработке клинически применимых и целенаправленных видов вмешательства и предоставляет средства интерпретации результатов исследований, которые в свою очередь служат усовершенствованию используемой модели (Liddle, 1999). Поэтому развитие теории требует внимания к исходным концептуальным структурам, поддерживающим модель, а также к их эволюции в ходе повторного применения и оценки модели. Изучение эффективности лечения входит в более широкую область психотерапевтических исследований, которые включают изучение основополагающих механизмов изменений и эффективности лечения в разных контекстах и для различных популяций. Изучение эффективности — лишь одна из стадий развития вмешательства, и каждая стадия жизненно важна для успеха остальных и для прогресса мероприятия в целом. 1. Концептуализация дисфункции. Концептуализация главных областей, имеющих отношение к развитию, возникновению, обострению дисфункции; предположения относительно ключевых процессов, являющихся предшественниками отдельных аспектов поведенческого отклонения, и механизмов появления и протекания этих процессов.
Настоящая статья рассматривает историю развития амбулаторного семейного вмешательства, направленного на разрешение аддиктивных и поведенческих проблем подростков: многокомпонентной семейной терапии (МСТ) — MDFT (Multidimentional Family Therapy). Обзоры программ, посвященных изучению вмешательств, показывают, насколько успешно происходит достижение определенных целей в этой сложной области (Foreland, 1990; O′Leary, в печати). МСТ представляет собой экологическую возрастную психотерапевтическую программу, направленную на изменение индивидуального поведения, внутрисемейных взаимодействий, а также отношений между членами семьи и релевантными социальными системами (Liddle, 1991). Вмешательство имеет целью воздействие на взаимосвязанные контексты развития подростков, а в их пределах — на обстоятельства и процессы, вызывающие и/или способствующие сохранению дисфункции (Bronfenbrenner, 1979; Hawkins, Catalano & Miller, 1002; Jessor, 1993). МСТ привлекает к терапевтическому воздействию разнообразные социальные системы (отдельных членов семьи, различные семейные подгруппы, влиятельных лиц и организации, которые не входят в состав семьи) и действует в различных областях функционирования подростка и семьи — аффективной, поведенческой, когнитивной, межличностной. Подход ориентирован на создание последовательных и ясных связей между его различными организационными уровнями: теорией, принципами вмешательства, стратегиями и методами, клинической оценкой семейного прогресса. МСТ получила признание как представительница нового поколения всеохватывающих, многокомпонентных, теоретически обоснованных и эмпирически подтвержденных программ лечения злоупотребления наркотиками среди подростков (Center for Substance Abuse Treatment, 1998; Kazdin, 1999; Lebow & Gurman, 1995; National Institute on Drug Abuse, 1999; Nichols & Schwartz, 1998; Selekman & Todd, 1991; Stanton & Shadish, 1997; Waldron, 1997; Weinberg et al., 1998; Winters, Latimer & Stinchfield, 1999). В настоящей статье будет описано, как эта программа была разработана, проверена и усовершенствована в соответствии с научными стандартами и ради эмпирического подтверждения ее эффективности в лечении злоупотребления психоактивными веществами и связанных с этим поведенческих проблем среди подростков. На наш взгляд, план, который предлагает А.Э. Каздин (Kazdin 1994), является конструктивной системой для организации и обсуждения наших продолжающихся усилий по валидизации программы. В соответствии с этим глава разбита на семь частей. Помимо всего прочего, представленный план указывает на стоящие перед нами цели в оценке полноты и последовательности осуществляемых мер и на новые направления в повышении эффективности вмешательства. Этапы 1 и 2: концептуализация дисфункции и исследование связанных с ней процессов В идеале представления о том, как развивается, поддерживается и обостряется дисфункция, являются основополагающими для любого вмешательства и для целостной модели, на которой оно базируется. Теория, касающаяся природы дисфункции, подвергающейся лечению, должна определять процесс оценки состояния пациентов, принятие решений и осуществление вмешательства, направлять подготовку реализующего воздействие терапевта и использоваться при рассмотрении результатов лечения. Кроме того, модели лечения должны устанавливать процессы и механизмы, с помощью которых терапевтические техники должны оказывать воздействие на объекты вмешательства; сюда входят указания на то, как принимаемые меры воздействуют на сферы функционирования, имеющие основное значение для развития дисфункции. Теория дисфункции Эпидемиологические, клинические и фундаментальные исследования указывают на то, что употребление подростками наркотиков представляет собой многокомпонентную проблему (Brook et al., 1988; Bukstein, 1995). Как экспериментирование с наркотиками (см.: Petraitis, Flay & Miller, 1995), так и диагностируемые нарушения, злоупотребление психоактивными веществами и зависимость (см.: Weinberg et al., 1998) являются следствием взаимодействия нескольких этиологических факторов. Современные исследования коррелятов употребления и злоупотребления наркотиками выделяют несколько важнейших сфер функционирования: индивидуальную, семейную, социальную, касающихся сверстников, школы, окружения по месту жительства (Hawkins, Arthur & Catalano, 1995; Hawkins et al., 1992). Такие факторы, как уровень образования, чрезвычайная бедность и влияние окружения по месту жительства, могут играть значимую роль в развитии проблемы. Более близкие факторы, такие как семейные конфликты и нарушение управления семьей (Dishion et al., 1995; Jessor, 1993), также могут способствовать нежелательным исходам. Индивидуальные факторы, такие как родительская психопатология или наркомания, отсутствие связи подростка со школой и академических успехов, подростковые проблемы эмоциональной регуляции, низкие навыки межличностного общения и отношений со сверстниками, вносят свой вклад в предрасположенность к употреблению наркотиков (Brook et al., 1988; Gottfredson & Koper, 1996; Jessor et al., 1995; Kandel & Andrews, 1987; Newcomb & Felix-Ortiz, 1992; O′Donnel, Hawkins & Abbott, 1995; Pickens & Svikis, 1991). Кроме того, злоупотребление психоактивными веществами предвещает множество негативных жизненных событий для конкретного подростка, включая опасности для физического здоровья (Achterberg & Shannon, 1993; Anderson, 1991), задержку эмоционального развития и развития навыков разрешения проблем (Baumrind & Moselle, 1985: Coombs, Paulson & Pallye, 1988), нарушенные межличностные отношения (Newcomb & Bentler, 1988), школьную неуспеваемость (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989) и малое участие в просоциальной активности (Shilts, 1991; Steinberg, 1991). Другими словами, существует множество путей, приводящих к употреблению подростками психоактивных веществ, и самые разнообразные последствия этого. Наша собственная концептуализация употребления подростками психоактивных веществ основывается на трех теоретических подходах, которые служат ориентирами при использовании обширной базы данных, касающихся наркотизации подростков, а также при разработке конкретного обоснованного плана вмешательства для каждой семьи. Первым из этих подходов является теория риска и защиты. Согласно этой теории, психологическая дисфункция определяется воздействием факторов риска, предрасполагающих к развитию нарушения, и факторов защиты, которые способствуют положительным исходам и защищают индивида от возникновения нарушения (Jessor et al., 1995). Сложные поведенческие проблемы, такие, как употребление наркотиков и поведенческие отклонения, не являются следствием единственной причины или фиксированного набора специфических предвестников; напротив, к развитию подобных нарушений могут приводить разные пути, и возможно выявить различные психологические, биологические и средовые факторы риска и защиты (Bukoski, 1991). Кроме того, считается, что факторы риска обладают мультипликативным эффектом: общий риск растет по экспоненте при возникновении каждого нового фактора риска. Другими словами, факторы риска имеют тенденцию усиливать друг друга синергичным образом (Newcomb, Maddahian & Bentler, 1986-Rutter, 1987). Отмечается, что факторы защиты как оказывают прямое позитивное влияние на поведение, так и косвенно снижают воздействие факторов риска на поведение (Jessor et al., 1995). Профили факторов риска и защиты используются для выявления лиц, подвергающихся риску возникновения поведенческих проблем, что дает возможность осуществить необходимое вмешательство. Применительно к МСТ мы уделяем особое внимание семейным факторам риска и защиты. Перечень таковых, увеличивающих уязвимость подростка в отношении злоупотребления наркотиками, слишком велик, чтобы приводить его здесь, но к наиболее важным, по эмпирическим данным, относятся: недостаток родительского мониторинга и дисциплины (Baumrind, 1991; Steinberg, Fletcher & Darling, 1994); высокий уровень конфликтности, низкий уровень общения и взаимного интереса между родителями и детьми (Baumrind, 1991; Newcomb & Felix-Ortiz, 1992); отсутствие родительского вклада в воспитание и привязанности к детям (Brook, Nomura & Cohen, 1989); положительное отношение родителей к наркотикам и их употребление в анамнезе (Hawkins et al., 1992). Качество взаимоотношений ребенка и родителей является особенно важным фактором. Подростки, не употребляющие наркотики, сообщают о том, что их родители чаще хвалят и ободряют их, оказывают им больше доверия и помощи, устанавливают для них ясные и последовательные правила; в отличие от них подростки, употребляющие наркотики, сообщают о том, что требования к ним родителей неясны и непоследовательны, что те реагируют только на их нежелательное поведение и не склонны обсуждать важные для подростков проблемы (Baumrind, 1991; Block, Block & Keyes, 1988; Coombs & Paulson, 1988; Dembo et al., 1981). Эмоциональная поддержка со стороны семьи и воспринимаемые близкие отношения с родителями являются значимыми предикторами общего благополучия подростка, в определенной мере защищают его от негативных средовых влияний (Resnick et al., 1997; Wills, 1990). Вторым теоретическим основанием нашей программы служит возрастная психопатология. Целью данного подхода является рассмотрение процесса индивидуальной адаптации и возникновения дисфункции с точки зрения нормативного развития, благодаря чему истинно неадаптивные поведенческие паттерны могут быть дифференцированы от вариаций в пределах нормы (Sroufe & Rutter, 1984). Возрастная патопсихология уделяет внимание не столько специфическим симптомам, проявляющимся у данного подростка, сколько его способности решать возникающие перед ним в процессе развития проблемы и воздействию пережитых на одном этапе возрастного развития стрессов на адаптацию (или ее нарушение) в последующие периоды. Поскольку многочисленные направления адаптации или девиации могут иметь начало в любой заданной точке, понимание компетентности и устойчивости к внешним воздействиям в отношении большого риска в равной мере важно для исследователя (Garmezy, Masten & Tellegen, 1984). К возрастным факторам, имеющим значение для возникновения и развития аддикции у подростков, относятся саморегуляция и исследовательское поведение (Hill & Holmbeck, 1986), стремление к самостоятельности, эмоциональные осложнения в семье (Steinberg, 1990) и увеличение зависимости от группы сверстников (Brown, 1990). Подростковое злоупотребление наркотиками может с теоретической точки зрения рассматриваться как проблема развития — отклонение от нормального пути или неудача в успешном разрешении возникающих в процессе взросления проблем. Третьим фундаментальным подходом, используемым нашей программой, является экологическая теория. Она изучает пересекающиеся социальные влияния, образующие контекст развития человека (Bronfenbrenner, 1986; Brook et al., 1989), рассматривая семью как ту окружающую среду, которая играет главную роль в таком развитии, и исследуя те внутрисемейные процессы, которые подвергаются воздействию внешних по отношению к семье систем (Bronfenbrenner, 1986). Экологическая теория в значительной мере совпадает с современными представлениями о взаимовлиянии человеческих отношений (Lerner & Spanier, 1978; Sameroff, 1975). Особое внимание уделяется тому, что проблемы могут корениться на разных уровнях и что обстоятельства, возникающие в одной области, могут влиять на другие. Например, отсутствие у подростка интереса к школе, затруднения в познавательных процессах и академическая неуспеваемость могут отражаться на нормальных обстоятельствах развития в семье (обострять напряженность в связи со стремлением подростка к самостоятельности) и тем самым провоцировать такое связанное с риском поведение, как употребление наркотиков; неумение родителя осуществлять управление семьей может приводить к ухудшению функционирования в связанных с этим областях — периодической депрессии, слабым социальным контактам, распаду семьи вследствие безработицы. Недостатки в управлении семьей могут также оказаться связанными с межличностными когнитивными процессами (например, воспоминаниями о прошлых неудачах в качестве родителя). Трудности в управлении семьей и непоследовательный родительский мониторинг могут провоцировать усиление фрустрации и неспособности решать обычные, проблемы, возникающие перед родителями подростка. Взаимодействуя, перечисленные обстоятельства могут создавать Мотивацию и возможности для аддиктивного или девиантного поведения подростка, а также его присоединения к компании сверстников с теми же проблемами. Объекты экологически-возрастного вмешательства В силу того что в возникновение и поддержание наркотизации, а также в функциональные нарушения, которыми страдают злоупотребляющие наркотиками подростки, свой вклад вносят столь многочисленные факторы, мы, как и другие исследователи, сочли необходимым применить широкомасштабные многокомпонентные стратегии вмешательства (Hawkins et al., 1992; Newcomb, 1992). Такие стратегии предусматривают воздействие на функционирование и взаимоотношения подростков во многих экологических нишах. Главной задачей вмешательства является изменение траектории развития подростка и его социального контекста таким образом, чтобы обеспечить здоровую и просоциальную социализацию. Другими словами, если злоупотребление наркотиками со стороны подростка — следствие определенного стиля жизни (Newcomb & Bentler, 1989), то именно стиль жизни во многих его проявлениях требует изменения. Поэтому наша экологически-возрастная модель предполагает одновременное вмешательство во многие социальные системы, важные для развития подростка. Это соответствует сложившемуся мнению о том, что является наиболее важным в воздействии на многочисленные проблемы подростков и их семей (Tolan, Guerra & Kendall, 1995). Такой подход означает, что оценки и вмешательства требуют многие внешние по отношению к индивиду и семье социальные сферы. В их число входит окружение по месту жительства, школа, где учится подросток, группы сверстников, а для некоторых и система правосудия по делам несовершеннолетних. Следует отметить, что модели экологически-возрастного вмешательства не требуют от практиков изменения школы или окружения по месту жительства как таковых. Вмешательство направлено на изменение отношения членов семьи к данным системам (т.е. того, что они думают о них и как взаимодействуют с ними). Как происходит выбор факторов риска или защиты, на которые будет направлено воздействие? Это требует сложного процесса принятия решений. Как правило, мы действуем по принципу максимальной опасности, т.е. оцениваем, какие аспекты и какие области функционирования связаны с наибольшим риском или представляют наибольшую потенциальную опасность для жизни подростка и его семьи. В тех случаях, когда имеют место существенные легальные проблемы и существует возможность помещения подростка в пенитенциарное учреждение, мы взаимодействуем с системой правосудия по делам несовершеннолетних с целью добиться стабилизации функционирования подростка. В случаях родительской дисфункции (например, психопатологии или злоупотребления психоактивными веществами) мы немедленно принимаем прямые клинические меры. Функционирование семьи и детско-родительские взаимоотношения едва ли могут улучшиться до тех пор, пока эти аспекты не получат достаточного внимания и по крайней мере не стабилизируются. Воздействие на факторы риска и защиты требует понимания того, как личностные характеристики и процессы проявляются во взаимосвязях с различными пересекающимися социальными системами. Цель нашей программы заключается в разработке практических мер, с помощью которых можно использовать данные теоретических и эмпирических исследований для усовершенствования клинической модели (Liddle et al., 1998, 2000). Участвующие в МСТ терапевты имеют подготовку, позволяющую им выявлять факторы риска, ассоциирующиеся с наркотизацией и антисоциальным поведением, и воздействовать на них. Такое воздействие должно заключаться в прямом блокировании продолжающихся проявлений фактора риска, минимизации его влияния или в достигаемом косвенными мерами смягчении влияния фактора риска с помощью изменений в других сферах (например, снижая влияние других, связанных с основным, факторов риска или способствуя действию факторов защиты). Терапевты в достаточной мере реалисты, чтобы не пытаться упразднить те факторы риска, которые изменению не поддаются. Кроме того, поскольку каждая семья, в которой есть употребляющий наркотики подросток, прошла свой собственный уникальный путь, ведущий к проявлению этой дисфункции, мы с вниманием относимся к идио-синкразиям и разочарованиям своих клиентов. Такой подход побуждает терапевтов видеть свою цель в помощи подростку и его семье в возвращении на адаптивный путь развития, а не только в излечении отклонения. Таким образом, задача терапевта — не просто запоминать список факторов риска и защиты и при любой возможности их обсуждать, а оценивать ситуации и осуществлять вмешательство в многочисленные системные и внутри-институциональные процессы, изучая профили факторов риска и защиты для данного подростка и его семьи. Этап 3: концептуализация лечения Основные принципы действия МСТ Развитие лечения основывается на четком обозначении и постоянной оценке основных принципов приложения психотерапевтической модели, которые представляют собой концептуально обоснованные правила терапевтической практики, направляющие клиническую ориентацию, принятие решений и вмешательство. Для таких интегративных многокомпонентных программ, Как МСТ, определение их принципов действия является нелегкой задачей. Расширение сферы воздействия требует более комплексных подходов и делает невозможным эффективное использование неизменных, стереотипных протоколов вмешательства (Addis 1997). Кроме того, более комплексным видам лечения труднее обучить и ими труднее пользоваться, что подвергает определенному риску возможность широкого применения программы (Liddle, 1982). Тем не менее мы уверены, что такая работа, хоть и является трудной, возможна. К настоящему времени существуют эмпирические ориентированные на семью программы с четко сформулированными принципами действия (Fruzetti & Linehan, в печати; Heggeler et al., 1998; Miklovitz & Goldstein, 1998). МСТ руководствуется следующими десятью принципами. 1. Подростковое злоупотребление наркотиками представляет собой многокомпонентный феномен, концептуализация и лечение которого основываются на экологической и возрастной перспективах. Вмешательство определяется знанием возрастных особенностей, и проблемы рассматриваются со многих сторон. Такой подход включает изучение индивидуальных, межличностных и контекстуальных аспектов и динамической составляющей, учитывающей взаимодействие многих систем и уровней влияния. 2. Имеющиеся у подростка и членов его семьи симптомы, а также возникающие кризисы и жалобы не только предоставляют важнейшую информацию для оценки ситуации, но и открывают возможности для вмешательства. 3. Изменение — явление многогранное; оно является следствием синергического взаимодействия систем различного уровня, разных людей, разнообразных областей функционирования, временных периодов, внутриличностных и межличностных процессов. Оценки и вмешательства дают некоторые указания, но не дают гарантий относительно временных рамок, направлений или видов изменений, характеризующих конкретный случай в определенный момент времени. Мультивариативная концепция изменений обязывает терапевта к скоординированной и последовательной проработке путей и способов изменения. 4. Предполагается, что ни подросток, ни его семья не имеют мотивации к изменениям. Восприимчивость к вмешательству и мотивация различны у разных индивидов, вовлеченных во взаимодействие. Мы рассматриваем процесс, иногда именуемый «сопротивлением», как нормальный. Хотя соответствующее поведение является препятствием для успешного осуществления вмешательства, оно указывает на факторы, нуждающиеся во внимании терапевта. Очень важен безоценочный подход к преодолению сопротивления. Мы понимаем, что подросток и его семья в достижении длительных изменений стиля жизни сталкиваются с существенными трудностями. 5. Осуществление лечения терапевтом становится возможным благодаря практико-ориентированным, сосредоточенным на достижении результата рабочим взаимоотношениям терапевта с членами семьи и с внесемейными источниками влияния, а также изучению личностно значимых отношений и жизненных тем. Эти аспекты удается выявить путем расспросов относительно целей, которые ставят перед собой отдельные индивиды и семья в целом, и оценки проявлений идиосинкразии со стороны подростка и других членов семьи. 6. Вмешательство носит индивидуализированный характер с учетом особенностей каждой семьи и ее окружения. Его целью являются экологические факторы риска злоупотребления наркотиками и проблемного поведения, а также поощрение защитных процессов, связанных с позитивными возрастными исходами. 7. Планирование и гибкость играют чрезвычайно важную роль и представляют собой взаимодополняющие факторы. Формулировки диагноза должны вырабатываться коллективно и служить показанием к началу лечения и его характеру. Вместе с тем они могут пересматриваться на основании новых данных и опыта проведения вмешательства. Терапевт с участием членов семьи и других лиц, не входящих в ее состав, но играющих важную роль, постоянно оценивает результаты вмешательства. Благодаря использованию обратной связи план вмешательства и отдельные процедуры постоянно пересматриваются. 8. Мы подчеркиваем ответственность, лежащую на терапевте. Терапевт несет ответственность за поощрение участия и усиление мотивации всех релевантных участников; разработку доступной для исполнения программы действий; предложение выбора из нескольких многокомпонентных методов лечения; терапевтическую направленность и последовательность вмешательства; помощь в поведенческих изменениях; информирование участников о достигаемых успехах; изменение процедуры вмешательства в случае необходимости. 9. Терапевт должен четко представлять последовательность этапов: определенные терапевтические операции (например, привлечение подростка и формулировка тем занятий), части занятий, их очередность, фазы лечения и терапии в целом, организованные в определенной последовательности. 10. Решающее условие успеха — отношение терапевта к пациенту. Терапевты должны выступать в роли адвокатов подростка и его семьи. Они не являются ни спасителями детей, ни проповедниками «строгой любви», главной заботой которых является применение власти и контроль над родителями. Терапевты должны проявлять оптимизм, но не наивность в отношении будущих изменений. Их чувствительность к влиянию окружения или социума Должна порождать идеи о том, как усовершенствовать вмешательство, а не поиск причин возникновения проблем или оправданий отсутствия изменений. Терапевту необходимо понимать, что он — инструмент достижения желательных изменений и его личное функционирование может способствовать или препятствовать успеху его работы. Параметры лечения в рамках МСТ Исследования в области психотерапии обнаруживают важное различие между параметрами и техниками лечения. Параметры лечения представляют собой аспекты осуществления программы, определяющие временные рамки, интенсивность, длительность и намеченные объекты вмешательства (Clarke, 1995; Kazdin et al., 1990). Они в значительной мере оказывают влияние на исход (Borkovec & Castonguay, 1988; Heinicke, 1990). В отличие от этого техники лечения — «активные ингредиенты» модели. Они включают основополагающий подход терапевта, реализуемый во время контактов с клиентом и при консультировании (Elkin et al., 1988; Sechrest, 1994). Техники лечения связаны с процессами изменения, которые должны иметь место в соответствии с моделью, т.е. тем, какие действия, в каких комбинациях и на каких этапах лечения совершаются в ответ на определенные проблемы клиента. МСТ руководствуется несколькими параметрами лечения. Занятия, как правило, проводятся в клинике, но иногда, особенно во время кризиса, могут переноситься в другие места — семейное жилище, школу, суд по семейным делам. Место проведения занятий может меняться в зависимости от этапа лечения, условий жизни или предпочтений подростка и его семьи, а также целей занятия. Решение о содержании занятия принимается в соответствии с терапевтическими целями данного момента. В частности, решение о том, кто будет участвовать в следующем контакте, определяется на очередном занятии; регулярно используются как индивидуальные, так и совместные виды консультирования, и правилом является использование тех и других на каждом занятии. Недавнее усовершенствование модели привело к полному пересмотру концепции занятий. Общение по телефону с отдельными членами семьи может быть развернутым и представлять собой модификацию занятия; такие беседы проводятся между встречами терапевта и клиента лицом к лицу. Таким образом, по мере включения в нашу программу все более трудных случаев мы все меньше учитываем число занятий и все больше — время контакта с клиентом. Роль терапевта в осуществлении МСТ весьма расширяется ради увеличения воздействия вмешательства. Его функции de facto охватывают контакты со школой, церковью, различными учреждениями (например, центрами профессиональной подготовки), а также юридическими службами по делам несовершеннолетних для привлечения к лечебным процедурам взрослых, не являющихся членами семьи, и для использования ресурсов различных организаций. Такая активность, кроме всего прочего, способствует тому, что терапевт уделяет больше внимания изменению поведения членов семьи в отношении различных социальных систем. МСТ представляет собой лечебное мероприятие, которое развивалось и опробовалось применительно к различным популяциям, в разных версиях и разных условиях осуществления. Мы испробовали разные по длительности и интенсивности варианты: 1) 16 занятий на протяжении 5 месяцев; 2) 15 — 25 занятий на протяжении 6 месяцев; 3) 15 — 25 занятий на протяжении 3 месяцев. Мы успешно провели пилотное исследование, представлявшее собой интенсивное амбулаторное лечение подростков, имеющих коморбидные диагнозы, оказавшихся в центре внимания юридических служб по делам несовершеннолетних и направленных на лечение по месту жительства; сейчас проводится оценка его результатов. Это исследование предусматривало изучение интенсивной амбулаторной версии МСТ как клинической и экономически эффективной альтернативы лечению по месту жительства. Как правило, более интенсивные контакты с членами семьи имеют место в начальный период терапии, а затем их число снижается. Занятия «лицом к лицу» длятся один-два часа. Кроме того, частые телефонные разговоры с подростком и его родителями служат для контроля, для углубления результатов занятий и улаживания конфликтов в семье. Основные области приложения МСТ МСТ придает особое значение четырем объектам вмешательства, для каждого из которых разработан свой перечень целей и техник лечения: сам подросток, родители и другие члены семьи, паттерны семейного взаимодействия, внесемейные системы влияния. Терапевты, используя собственную профессиональную подготовку, приобретенный опыт и накапливающиеся знания о семье клиента, координируют проводимые процедуры внутри указанных областей и между ними. В зависимости от семейного профиля факторов риска и защиты каким-то из них может уделяться больше времени и внимания, чем другим. Прогресс в одной области обычно облегчает работу в остальных, и на протяжении лечения самые важные темы обсуждаются поочередно применительно к разным областям, а если нужно, то и повторно. Подросток. Работая с подростком, терапевты сосредоточивают внимание на роли, которую данный индивид играет в семейной системе, а также в других социальных системах — в школе и группе сверстников. Подростки, имеющие аддиктивные и поведенческие проблемы, обычно участвуют в терапии неохотно (Liddle, Dakof & Diamond, 1991; Taylor, Adelman & Kaser-Boyd, 1985) и относятся к вмешательству более негативно, чем другие члены семьи (Robbins et al., 1996), что приводит к затруднениям в создании рабочего альянса с терапевтом (DiGuiseppe, Linscott & Jilton 1996). В начале лечения терапевты МСТ много времени посвящают общению с подростком наедине, чтобы привлечь его к участию в лечении и выработать личностно значимую программу работы, обсуждая причины того, почему такая программа может совпадать или нет с программами других участников (Diamond et al., 1999). Для этого терапевт выясняет, какие темы имеют для подростка личную значимость, и подробно расспрашивает его о функционировании в тех социальных системах, внутри которых протекает его жизнь. Терапевт помогает подростку детально описать то, как он принимает решения, каковы его отношения со сверстниками, как он приспосабливается к процессу взросления, как воспринимает достижение или недостижение личных целей. Таким образом, терапевтам удается лучше узнать повседневную жизнь клиента и оценить имеющиеся факторы риска и защиты. Эта информация служит основанием для определения целей лечения, которые были бы достижимы и важны для подростка и его семьи. На этой начальной стадии основное внимание на индивидуальных занятиях уделяется аддиктивному и другим видам отклоняющегося поведения. Обсуждаются как внутриличностные, так и межличностные аспекты употребления наркотиков, с особым упором на отношения подростка с окружающими. Принимаемые терапевтом меры основываются на предположении, что наркотизация отражает затруднения в возрастном функционировании и в свою очередь является причиной возникновения поведенческих проблем и негативных взаимоотношений. Другими словами, злоупотребление психоактивными веществами может служить маркером существующих или прошлых проблем в семейном функционировании, но и, в свою очередь, может порождать дисгармонию или обострять умеренно конфликтные семейные отношения. Изучаются также отношения подростка с людьми за пределами семьи. Терапевты выясняют, как прием наркотиков и антисоциальное поведение отражаются на отношениях со сверстниками и с учителями, и поощряют просоциальное взаимодействие с ровесниками и не являющимися членами семьи взрослыми, способствуют возникновению мотивации в отношении создания про-социальных отношений, обсуждают соответствующие возможности и требующиеся для этого навыки. Родители и семья. Большое внимание терапевты уделяют роли родителей — взрослых, часто борющихся с трудными жизненными обстоятельствами и нередко утрачивающих веру в свою способность влиять на собственных детей. Качество взаимоотношений подростка с родителями является, возможно, самым сильным фактором защиты от развития проблемного поведения (Resnick et al., 1997). К несчастью, как правило, родители подростков, имеющих проблемы, связанные с приемом наркотиков, уже испробовали разнообразные способы борьбы с таким поведением; часто имеет место целая последовательность неудач в попытках более эффективно осуществлять родительские функции (Patterson, Reid & Dishion, 1992). К тому же родители подростков, употребляющих наркотики, обычно оказываются под сильным давлением со стороны многих обстоятельств: недостаточной личной и социальной поддержки, экономических тягот, негативных чувств в отношении собственной родительской семьи, депрессии или иных видов психопатологии (Luster & Okagaki, 1993; Robinson & Garber, 1995). Таким образом, до начала терапевтических процедур или одновременно с ними консультант должен обратить серьезное внимание на: 1) выяснение того, как личные стрессоры родителей влияют на жизнь семьи; 2) возможность оградить подрбстка (и других детей в семье) от неблагоприятных последствий; 3) содействие родителям в оценке различных источников социальной (а если нужно, то и психиатрической) помощи. Ориентированное на родителей вмешательство терапевты МСТ осуществляют поэтапно. Во-первых, проводится оценка привязанности между родителями и подростком. Неудачи в поддержании как автономии, так и связи в детско-родительских отношениях представляют собой существенный фактор разнообразных нежелательных исходов (Allen, Hauser& Borman-Spurrell, 1996; Greenberg, Speltz & DeKlyen, 1993), а эмоциональная отстраненность — типичная черта семей подростков, употребляющих наркотики (Patterson & Stouthamer-Loeber, 1994; Volk et al., 1989). В качестве первого шага в направлении изменения поведения (родительской практики) терапевты стремятся уменьшить эмоциональную дистанцию между родителями и подростком. Для этого они: 1) поощряют или вызывают вновь чувство любви и заботы по отношению к ребенку; 2) подтверждают ценность предыдущих родительских попыток решить проблемы, связанные с подростком; 3) выражают понимание прошлых и настоящих тяжелых обстоятельств в личной жизни родителей; 4) укрепляют надежды на лучший исход с помощью усиления чувства владения ситуацией и контроля (Liddle et al., 1998). Эти усилия по восстановлению внутрисемейных связей направлены на создание веры в необходимость и возможность оказывать корректирующее воздействие на подростка. После достижения желаемых сдвигов в эмоциональной сфере терапевт приступает к оценке и воздействию на родительские стиль и практику в таких сферах, как мониторинг, дисциплина, установление правил, создание поддерживающего психологического кллимата, стратегии, помогающие справляться с жизненными проблемами (Diamond & Liddle, 1996). Родительское отношение и родительское поведение в отношении употребления подростком наркотиков на этом этапе являются объектом основного внимания терапевта. Хотя индивидуальная и совместная работа с подростком и его родителями составляет ядро программы, другие члены семьи также могут играть определенную роль в наркотизации подростка или в его адаптивной социализации. Сиблинги, члены семьи, не проживающие вместе с семьей, и более дальние родственники также включаются в оценку, формулировку диагноза и вмешательство. Те лица, которые играют ключевую роль в жизни подростка, приглашаются (по показаниям) принимать участие в семейных или индивидуальных занятиях. Их содействие обеспечивается информированием о критической для подростка ситуации и о необходимости для потенциально влиятельных взрослых, в особенности придерживающихся просоциального поведения, объединить усилия для оказания ему помощи. Семейное взаимодействие. Воздействие в этой области направлено на паттерны внутрисемейных отношений благодаря созданию такого контекста, который способствовал бы развитию мотивации, навыков и опыта в изменении семейных отношений и взаимодействия в направлении большей адаптации. Разнообразные виды негативных семейных контактов связаны с развитием и поддержанием наркотизации подростка (Baumrind, 1991; Brook et al., 1989; Hawkins et al., 1992). Восстановление дет-ско-родительских отношений на этой стадии семейной жизни представляет собой весьма деликатную операцию, требующую умелого подхода, и играет важную роль в краткосрочных и долговременных эволюционных исходах (Ferrari & Olivette, 1993; Fuligni & Eccles, 1993; Pardeck & Pardeck, 1990). Исследования в области семейной терапии показывают, что изменения в паттернах семейного взаимодействия связаны с изменениями проблемного поведения, включая прием подростками наркотиков (Mann et al., 1990; Robbinsetal., 1996; Schmidt, Liddle & Dakof, 1996; Szapocznik et al., 1989). Терапевты МСТ стремятся понять, а затем и изменить имеющий место контекст детско-родительских взаимоотношений при помощи обучения членов семьи неотрепетированному взаимодействию на занятиях с использованием классической для семейной терапии техники (Minuchin & Fishman, 1981). Иногда они оказывают прямую помощь в поддержании разговора благодаря изменению паттернов взаимодействия и тем самым изменению отношений; в других случаях разговор возникает спонтанно. Терапевты наблюдают за тем, как общаются подросток и родители, как они разрешают (или не разрешают) свои проблемы, и как точка зрения каждого принимается или отвергается. Затем взаимодействие направляется в русло придания нового содержания существующим взаимоотношениям или создания новых и тем самым формирования более адаптивных и щадящих привычек в отношениях (Diamond & Liddle, 1999). Возможность для семьи практиковаться в новых формах взаимоотношений и делать это в контексте, благоприятствующем поддержанию и отработке новых видов поведения, становится решающей для их приятия и долговременного существования. Более того, практика в адаптивных отношениях на занятиях дает возможность членам семьи понять, что собой представляет доброжелательный разговор (который является признаком положительных отношений). Данный процесс способствует распространению воздействия вмешательства. Для того чтобы дискуссии на занятиях были продуктивными, подросток и его родители для начала должны быть в состоянии общаться без излишних взаимных обвинений или оборонительных реакций, поэтому вмешательство прежде всего бывает направлено на снижение негативизма (Robbins et al., 1996) и создание возможностей для более конструктивной дискуссии. И подростки, и их родители зачастую нуждаются в существенной поддержке со стороны терапевта, прежде чем они смогут вступить в продуктивное общение на занятиях. Такая подготовка происходит на совместных и индивидуальных занятиях, во время которых участники обучаются умению вести беседу, что особенно важно для последующей работы. Общая цель такой индивидуальной подготовки состоит в том, чтобы помочь каждой из сторон сформулировать то, что должно быть сказано, и подготовить к возможным реакциям других участников, а также укрепить своего рода мини-договор, который позволил бы терапевту побудить подростка и его родителей участвовать в намеченных процедурах, когда начнется вмешательство. Предварительная подготовка требуется для того, чтобы участники приняли менее экстремальную, менее отягощенную эмоциями позицию. Благодаря такому предварительному смягчению острых чувств или категорических мнений члены семьи получают возможность сделать первый шаг в сторону преодоления привычных проблем в общении. Такие меры также выявляют трудности, которые предстоит преодолеть при обсуждении трудных, но важных тем. Самое главное заключается в том, что данная клиническая процедура преобразует неразрешимую ситуацию, создавая комплекс элементов, с которыми можно работать, и подчеркивает необходимость систематизированного подхода к проблемам и его тщательного планирования. Внесемейные системы влияния. Терапевты МСТ стремятся достичь высокого уровня сотрудничества между семьей и всеми системами экологического окружения, в котором живет подросток: школой, рекреационными учреждениями, юридическими службами по делам несовершеннолетних. Мы не считаем, что одного изменения паттернов семейных взаимодействий достаточно для устранения симптомов отклоняющегося поведения подростка. На его развитие в лучшую или в худшую сторону влияют многие внесемейные и социальные силы, и эти аспекты экологии также нуждаются в оценке и вмешательстве, если оно необходимо и возможно. Вмешательство в этих областях преследует те же цели, что и, применительно к подростку и его семье, создание новых видов эмоциональных реакций, нового взгляда на вещи, новых поведенческих альтернатив при взаимодействии с основными внесемейными источниками влияния. Для достижения этих целей практикуется интенсивное управление членами семьи как напрямую, так и косвенно через системы, существующие вне семьи. Для перегруженных многими заботами родителей помощь в контактах с различными бюрократическими инстанциями или дополнительными службами жизненно важна. Родители могут нуждаться в содействии в таких фундаментальных областях, как получение жилища, медицинская помощь, рекомендация для профессиональной подготовки или направление для участия в программе самопомощи. Разрешение конкретных жизненных проблем способствует готовности семьи участвовать в ключевых терапевтических мероприятиях (Prinz & Miller, 1991). Комплексная работа терапевта важна сама по себе, но она также содействует успеху и в других областях. Терапевты постоянно взаимодействуют со школьной администрацией в целях улучшения посещаемости и успеваемости учащихся; занятия с участием всей семьи нацелены на разработку планов улучшения связанного со школой поведения подростка и обеспечения его личных образовательных потребностей (например, возможного перевода в альтернативную школу). Терапевты помогают семьям в поиске упорядоченных послешкольных и рекреационных занятий, которые соответствовали бы интересам и способностям подростка. Кроме того, тесные контакты с юридическими службами по делам несовершеннолетних оказываются решающим фактором в успехе некоторых программ по борьбе с подростковой наркоманией (Pompi, 1994). При возникновении легального или судебного преследования немедленно устанавливаются интенсивные рабочие контакты с должностным лицом, осуществляющим надзор за условно осужденными, или другими служащими, назначенными судом для работы с подростком. Такие отношения способствуют партнерству и взаимопомощи между медицинской и юридической системами и их представителями. Терапевты стремятся к тому, чтобы лечение в целом и его отдельные аспекты, такие как комендантский час для подростка, посещение школы или работы, анализы на наркотики, осуществлялись скоординированно и представляли собой совместные усилия правоохранительной и медицинской систем. Этапы 4, 5 и 6: подробное описание вмешательства, изучение процесса и исходов лечения Мониторинг приверженности лечению Приверженность лечению, или строгость соответствия определяется степенью, в которой данный вид терапии осуществляется в соответствии с главными теоретическими и процедурными аспектами модели (Moncher & Prinz, 1991). Строгость соответствия чрезвычайно важна для действенности, воспроизводимости и распространимости терапевтических моделей (Moncher & Prinz, 1991; Yeaton & Sechrest, 1981). Действительно, широкое распространение руководств по психотерапии может рассматриваться как попытка сделать применение модели более специфичным и стандартизованным, чтобы предписанные вмешательства осуществлялись с большей надежностью и имелась возможность исключить концептуально несоответствующие процедуры (Waltz et al., 1993). Именно поэтому проверка строгости соответствия необходима для подтверждения того, что вмешательство осуществляется в соответствии со спецификациями модели. Такая проверка проводится в двух направлениях: мониторинг приверженности и ее оценка (Hogue, Liddle & Rowe, 1996). Мониторинг приверженности означает «контроль качества» процедур, проводимый до или одновременно с текущим лечением. Его элементами являются отчеты о подготовке, руководстве работой и исполнении своих обязанностей терапевтом наряду с проверкой записей в истории болезни и планов лечения. Оценка приверженности представляет собой систематическое рассмотрение используемых терапевтических процедур с целью определения действительного соответствия модели. К обычным методам оценки относятся анализ занятий экспертами, рассмотрение самоотчетов терапевта, регистрация процесса вмешательства на аудио- или видеопленке. Будучи моделью комплексной и интенсивной психотерапии, МСТ уделяет большое внимание подготовке специалистов и руководству их работой (Liddle, Becker & Diamond, 1997). Для допущения к специальной подготовке требуется как минимум степень магистра и 2-летний опыт работы в области семейной терапии. Подготовка включает примерно 100 часов знакомства с литературой, дидактических семинаров, просмотра видеоматериалов совместно с руководителем и опытными специалистами и пилотного ведения двух или трех пациентов. Все занятия контролируются супервизором лично или по видеозаписи. После завершения подготовки руководитель в течение часа или двух в неделю контролирует работу терапевта, что включает обзор и концептуализацию каждого случая, просмотр видеозаписей и личное присутствие на занятиях. Истории болезни используются, среди прочего, для выявления того, кто из членов семьи и какие экологические системы (школа, рекреационные учреждения, церковь, правоохранительные органы) включаются в план вмешательства и привлекаются к нему, какое время уделяется каждой из областей вмешательства, а также для составления письменного заключения терапевта и его руководителя о еженедельном (а иногда ежедневном) прогрессе в лечении. Изучение данных о приверженности лечению подтвердило, что МСТ может применяться с высокой степенью строгости соответствия модели (Hogue, 1998). Проводилось сравнение техники вмешательства терапевтов МСТ и специалистов, использующих когнитивно-поведенческий подход, при рандомизированном контролируемом исследовании лечения подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами. Независимые эксперты просматривали видеозаписи случайным образом выбранных занятий, применяя метод оценки приверженности лечению, специально разработанный для выявления терапевтических техник и результативных методов вмешательства, используемых в двух моделях лечения. Оценивались частота и полнота (глубина, комплексность, настойчивость) применения техник. Результаты показали, что терапевты МСТ надежно использовали основные методы вмешательства, предписанные моделью: изучение индивидуального функционирования подростка и его родителей, формирование воспитательных навыков у родителей, подготовку и помощь во взаимодействии многих участников занятия, помощь в изменении поведения разных членов семьи. Более того, действуя в соответствии с установкой МСТ на укрепление семейных уз, терапевты особое внимание уделяли созданию поддерживающего терапевтического окружения, поощрению дискуссий и выражения эмоций, вовлекая клиентов в совместную разработку плана лечения и изучение повседневного поведения подростка, связанного с нормативным развитием. Данное исследование показывает, что детальная оценка строгости соответствия модели способствует развитию методов лечения и повышению квалификации участвующих в нем специалистов. Изучение процесса лечения Существует очень большая потребность в исследованиях процессов изменений, вызываемых эффективными психотерапевтическими вмешательствами по поводу подростковой наркомании (Kazdin & Kagan, 1994; Ozechowski & Liddle, 2000). Современные исследования процесса лечения говорят в пользу исследовательского дизайна, объединяющего клиническую валидность с теоретической значимостью и ориентированным на лечение построением модели (Hayes, Castonguay & Goldfried, 1996; Omer & Dar, 1992), делающего упор на изучении вызывающего изменения взаимодействия клиента и терапевта (Diamond & Diamond, в печати; Russell, 1994). Такая программа исследований как нельзя более актуальна для лечения подросткового злоупотребления психоактивными веществами. Существуют свидетельства эффективности семейной терапии аддикции у подростков (Liddle & Dakof, 1995; Waldron, 1997). Более того, некоторые авторы считают, что семейная терапия злоупотребления подростками психоактивными веществами — наиболее эффективный и многообещающий подход из существующих в настоящее время (Stanton & Shadish, 1997; Williams & Chang, 2000). В то же время гипотеза о механизмах изменений, ответственных за прложительные исходы, остается непроверенной и не совсем понятной (Ozechowski & Liddle, 2000). Исследования процессов, основанные на теории, должны заполнить этот пробел, тем самым стимулируя построение клинической модели и способствуя распространению эффективных техник вмешательства (Diamond & Diamond, в печати). Мы осуществили исследование процессов применительно к подходу, используемому МСТ. Его целью было выявление ключевых, но остающихся неясными или трудными аспектов терапии употребления наркотиков подростками. Мы стремились выяснить, как успешнее привлечь к лечению подростков и их родителей и как воздействовать на некоторые фундаментальные проявления дисфункции, обнаруживающиеся во многих случаях со значимой регулярностью. Основное внимание уделялось описанию и прояснению основополагающих процессов как нарушения функционирования, так и излечения или улучшения, а также действиям терапевта, связанным с этими процессами. В результате были достигнуты определенные успехи в понимании механизмов изменений, обеспечиваемых применением модели. Осуществлялись проверка гипотез, направленная на подтверждение клинической теории и методологического подхода (Hill, 1994; Shoham-Salomon, 1990), ориентированного на открытие новых путей (имеющего целью уточнение или расширение существующей теории и изучение неспецифических феноменов). Наша работало настоящего времени была направлена на выяснение ряда вопросов, имеющих важнейшее значение для понимания того, каким образом МСТ обеспечивает клинические изменения: 1) производит ли МСТ изменения в семейных взаимодействиях, как предсказывает модель; 2) исправляет ли МСТ родительское поведение, связанное с аддиктивными и поведенческими проблемами подростка, и как такие изменения отражаются на снижении наркотизации и улучшении поведения подростка; 3) могут ли быть достигнуты продуктивные рабочие отношения с городскими подростками, обремененными многими проблемами, представителями этнических меньшинств; 4) могут ли терапевты МСТ осуществить культурно-значимое вмешательство, улучшающее участие в лечении афроамериканских подростков. Разрешение детско-родительских противоречий. Г. М. Дайамонд и Г.А.Лиддл (Diamond & Liddle, 1996; 1999) использовали анализ рабочих заданий для выявления комбинаций клинических методов вмешательства и семейного взаимодействия, необходимых для разрешения тупиковых ситуаций на занятиях. К ним относятся случаи, характеризующиеся враждебными репликами, эмоциональным отторжением, неумением разрешать возникающие между участниками проблемы. В исследовании принимала участие подвыборка семей подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами и находящихся на учете в правоохранительных органах. Действия со стороны терапевта, направленные на преодоление этих негативных моментов, включали: 1) активное противодействие, отвлечение либо принятие мер в отношении негативного аффекта; 2) имплантацию и поощрение мыслей и чувств, способствующих конструктивному диалогу; 3) формирование эмоциональных союзов между членами семьи благодаря поочередной работе только с родителями или только с подростком. В случае успешного разрешения тупиковой ситуации терапевт изменял темы и тон бесед. Внимание терапевта переключалось с устранения обвинений и безнадежности со стороны родителей на развитие у них раскаяния и чувства потери, а может быть, и печали из-за того, что происходит с их ребенком. Одновременно поощрялись размышления подростка о препятствиях во взаимопонимании с родителями и другими людьми. Происходящие во время занятий перемены во взглядах и эмоциях делали возможными неконфронтационные разговоры между подростком и его родителями. Этот процесс развивал у родителей эмпатию по отношению к трудностям, переживаемым подростком, и обеспечивал их поддержку и похвалу его успехов. Такое вмешательство и вызванные им процессы благоприятствовали личностному раскрытию подростка и создавали возможность перемен в семейных взаимоотношениях. Степень тяжести семейного конфликта и безнадежности служила предиктором успешного разрешения тупиковой ситуации: самой малой вероятность перехода на новый уровень общения была у наиболее конфликтных семей. Исследование дало новые клинические данные в четырех областях. Во-первых, мы получили теоретически обоснованный способ выделять семейные транзакционные процессы, которые известны как детерминанты отрицательных поведенческих исходов у детей и подростков. Во-вторых, нам удалось взломать (в терминах поведенческих характеристик) компоненты тупиковой ситуации, предоставив подростку и его родителям возможность делать собственные последовательные взносы в создание конструктивных взаимоотношений. В-третьих, мы определили роль различных действий терапевта в преодолении тупиковой ситуации. И в-четвертых, мы получили подтверждение тому, что во время занятия терапевт может воздействовать на существующий между подростком и его родителями конфликт и тем самым на один из пунитивных механизмов поведенческой дисфункции, связанной со злоупотреблением наркотиками. Изменение практики воспитания. С.Шмидт, Г.А.Лиддл и Г.А.Дакоф (Schmidt, Liddle & Dakof, 1996) изучали природу и степень изменений в родительском поведении, а также связь между родительскими субсистемными изменениями и уменьшением патологической симптоматики у подростка. На выборке родителей, чьи дети состояли на учете в правоохранительных органах и имели существенные, связанные с наркоманией психические и соматические проблемы, было показано значимое снижение негативных проявлений практики воспитания (например, аффектов, вербальной агрессии) и рост положительных (мониторинга, установления правил, выражения положительных эмоций и интереса) на протяжении курса терапии. Более того, таким переменам в практике воспитания сопутствовало уменьшение приема подростками наркотиков и числа случаев проблемного поведения. Было выявлено четыре паттерна детско-родительского взаимодействия: 59% семей обнаружили улучшение как родительской практики, так и симптоматики у подростка; в 21 % случаев улучшение практики воспитания не сопровождалось изменениями в поведении подростков; в 10% случаев наблюдались позитивные сдвиги в симптоматике у подростка при отсутствии улучшений в родительской практике; у 10% испытуемых не было отмечено улучшений ни в том, ни в другом. Эти данные подтверждают предпосылку семейной психотерапии: изменения в фундаментальных аспектах семейной системы (родительской практике) сопровождаются изменениями в области, представляющей главный интерес, — в улучшении симптоматики у подростка, в том числе степени злоупотребления наркотиками. Более того, эти данные говорят о том, что факторы риска и зашиты, связанные с родителями, могут быть изменены методами терапевтического вмешательства. Наши последующие работы привели к уточнению теоретических взглядов и эмпирических методов воз-Действия на родительское поведение (Liddle et al., 1998). Создание альянса между терапевтом и подростком. Мы изучали воздействие участия во вмешательстве на изначально плохое взаимодействие подростка с терапевтом (Diamond et al., 1999). В выборку входили стоящие на учете в правоохранительных органах злоупотребляющие психоактивными веществами городские подростки, у большинства из которых имелся двойной диагноз: злоупотребление психоактивными веществами и психическое отклонение (Rove, Liddle & Dakof, в печати). Подростки, проявившие нежелание сотрудничать с терапевтом на первом занятии, находились под наблюдением на протяжении трех последующих встреч. Значимое улучшение достигалось в случаях, когда терапевт прибегал к следующим укрепляющим альянс мерам: опоре на собственный опыт подростка, формулированию личностно-значимых для него целей, демонстрации того, что сам он является союзником подростка. Отсутствие улучшений или ухудшение происходили вследствие постоянных попыток терапевта ознакомить подростка с природой терапии. Кроме того, при улучшении терапевт наращивал свои усилия от занятия к занятию (проявлял настойчивость в достижении альянса с подростком), а при ухудшении — ослаблял его (отказывался от попыток установить рабочий контакт). Эти результаты свидетельствуют, что, хотя общепринятым является ознакомление пациента в начале вмешательства с предстоящим лечением, слишком пристальное внимание к этой стороне дела или затягивание данной стадии означают отсрочку обсуждения того, что является личностно-значимым для подростка, и продуктивные рабочие взаимоотношения не формируются. Детальные описания того, как привлечь подростков к участию в семейной терапии, приводятся во многих работах Г.А.Лиддла с коллегами (Liddle, 1995; Liddle,& Diamond, 1991; Liddle et al., 1992). Учет при вмешательстве культурной специфики. Было проведено исследование того, улучшает ли обсуждение тем, касающихся культурной специфики, готовность участвовать в лечении (Jackson-Gilfort et al., в печати). Выборка состояла из афроамериканцев мужского пола, жителей города, состоящих на учете в правоохранительных органах, злоупотребляющих психоактивными веществами. Обсуждение специфических тем (например, чувства гнева, ярости, отчужденности, перехода от детства к взрослости — того, что значит быть мужчиной-афроамериканцем) сопровождалось как более тесным участием в терапии, так и снижением негативизма уже к следующему занятию. Эти данные говорят о том, что использование некоторых культурно-специфических тем напрямую связано с доверием подростка к процессу терапии. А.Джексон-Гилфорд и Г.А.Лиддл описывают разработку тем, касающихся особенностей развития афроамериканцев, и приводят примеры их клинического использования (Jackson-Gilford & Liddle, в печати). Исследование исходов МСТ Золотым стандартом для оценки эффективности лечения по-прежнему остается изучение исходов в контролируемых условиях, несмотря на то, что в адрес этого метода и раздаются критические замечания (Persons, 1991; Seligman, 1996). При таком подходе два или более видов клинически действенного лечения сравниваются по признаку эффективности на одной и той же выборке; испытуемые для каждого вида лечения распределяются случайным образом. Дизайн сравнения исходов обладает несколькими методологическими и интерпретационными достоинствами (Basham, 1986; Davison & Lazarus, 1994; Kazdin, 1986): он позволяет информативно сопоставлять модели с теоретически различными и даже противоположными механизмами изменения; контролировать теоретически совпадающие факторы, такие как внимание терапевта, его побуждающее к изменениям поведение, эффект взросления испытуемого; избегать этических вопросов, связанных с отсрочкой лечения, и сомнениями в интернальной валидности изза предпочтения испытуемыми иных методов лечения. Кроме того, различие в величине эффекта, как правило, оказывается меньше, когда исходы разных видов терапии сравниваются друг с другом (в отличие от сравнения с группой, не получающей лечения, или с группой плацебо), что приводит к более строгой оценке эффективности лечения. Эффективность МСТ оценивалась при проведении трех контролируемых сравнительных исследований; другие крупные программы продолжают сопоставлять различные версии МСТ на разных подгруппах злоупотребляющих наркотиками подростков. Одно из упомянутых исследований касалось раннего профилактического вмешательства (Hogue et al., в печати; Liddle & Hogue, 2000); два других еще продолжаются (см.: www.med.miami.edu/ctrada ). В одном из завершенных рандомизированных исследований МСТ сопоставлялась с альтернативными методами: мультисемейным образовательным вмешательством — MFE1 (multifamily educational intervention; Barrett, 1990) и групповой терапией для подростков — AGT (Adolescent Group Therapy; Concannon, McMahon & Parker, 1989). Первый из них (MFEI) предусматривает создание групп из трех-четырех семей, с которыми терапевт проводит дидактически-интерактивные занятия с целью снижения стресса, рассмотрения факторов риска и защиты, обучения навыкам разрешения семейных проблем и общения; практикуются также семейные «форумы» для обмена новостями и еженедельные обсуждения домашних дел. В рамках AGT группы из шести —восьми подростков занимаются с двумя терапевтами, задачей которых является просвещение в отношении последствий приема наркотиков, проведение групповых дискуссий относительно разделяемых подростками чувств и ценностей, обучение навыкам общения, самоконтроля, самоуважения, разрешения проблем и использования социальной поддержки сверстников. Эти два сравнительных исследования были выбраны ради ясного выявления сходства и различий моделей в предполагаемых ключевых терапевтических механизмах: как МСТ, так и MFEI представляют собой ориентированные на семью вмешательства, основное внимание уделяющие изменению родительского поведения; как МСТ, так и AGT воздействуют преимущественно на создание мотивации и выработку социальных навыков у конкретного подростка; и MFEI, и AGT используют в качестве главного агента изменений групповую поддержку. Дозировка лечебных воздействий во всех трех случаях контролировалась: каждое вмешательство предполагало 14—16 еженедельных терапевтических занятий в медицинском учреждении. Обследовалась выборка из 95 принимающих наркотики подростков и членов их семей после окончания вмешательства. Критерием включения в группу испытуемых служило употребление марихуаны трижды в течение недели за предшествующие 30 дней или единичный прием другого наркотика (за исключением алкоголя). Средний возраст подростков составил 16 лет; 80% из них принадлежали к мужскому полу; 51 % были белыми не латиноамериканцами; 18 % — афроамериканцами, 15 % — латиноамериканцами, 16% — другой этнической принадлежности; 48% происходили из семей с одним родителем, 31 % — из семей с двумя родителями, 21 % — жили с приемными родителями; средний доход семьи составлял 25000 долларов в год. 51 % подростков принимали несколько наркотиков, 49% — только марихуану и алкоголь; 61 % имели контакты с отделом по работе с несовершеннолетними правонарушителями. Обследование проводилось в момент включения в выборку, через 6 и 12 месяцев после окончания вмешательства с учетом следующих показателей исхода: употребление наркотиков по самоотчетам подростков, отчеты родителей о поведении подростков, наблюдавшаяся компетентность семьи, средние оценки подростка по основным предметам, по данным школьной администрации. Общий паттерн результатов говорит об улучшениях во всех трех группах; те подростки, которые участвовали в программе МСТ, продемонстрировали наибольшие и самые разнообразные успехи. У всех испытуемых отмечено снижение приема наркотиков и проявлений отклоняющегося поведения; первый из этих показателей самым позитивным был для МСТ: у 45 % участников МСТ (против 32 и 26 % для AGT и MFEI соответственно) отмечены клинически значимые изменения в приеме наркотиков: при обследованиях через 6 и 12 месяцев их употребление оказалось ниже критерия включения в выборку. Кроме того, только участники МСТ сообщали о значимом улучшении семейной компетентности и школьной успеваемости подростков. Целью МСТ, как ориентированного на семью вмешательства, является изменение семейного функционирования, поскольку неблагополучное семейное окружение — один из известных детерминантов аддиктивных проблем у подростков. Таким образом, полученные результаты особенно важны в силу того, что подтверждают один из предполагаемых МСТ механизмов воздействия. Другой важный психологический фактор защиты, на который нацелена МСТ, академическая успеваемость — давно известный и влиятельный аспект функционирования подростка (Hawkins et al., 1992). Процент подростков, у которых средний балл превысил минимальный проходной, вырос с 25 в начале исследования до 68 % при последующих обследованиях (для AGT и MFEI эти цифры составили 43 и 60% и 33 и 41 % соответственно). Наконец, МСТ превосходила остальные программы по добросовестности участия испытуемых во вмешательстве: 33 из 45 (73 %) участников МСТ завершили курс полностью; для AGT и MFEI эти цифры составили соответственно 29 из 55 (52 %) и 34 из 52 (65 %). Во втором исследовании эффективность МСТ сравнивалась с индивидуальной когнитивно-поведенческой терапией подростковой наркомании — СВТ (individual cognitive-behavioral therapy for adolescent drug abuse; Turner, 1992; 1993). С ВТ предполагает три этапа. На первом из них — планирование лечения и набор группы — основное внимание уделяется выявлению приоритетных проблем подростка и выработке договора о лечении. Второй предусматривает интенсивное когнитивно-поведенческое вмешательство, цель которого — увеличение компетентности в разрешении проблем и поведенческий контроль над приемом наркотиков. К основным видам вмешательства относятся: заключение соглашения, самомониторинг, тренинг навыков разрешения проблем и общения, выявление поведенческих отклонений, усиление просоциальной активности, выполнение работ по дому. Третий этап посвящен проблемам отказа от наркотиков и предотвращению рецидивов; его целью является улучшение долговременных навыков самоуправления. СВТ была выбрана для сравнения с МСТ, поскольку она широко практикуется и представляет собой эмпирически подтвержденное терапевтическое вмешательство. В обоих случаях лечебные сеансы проводились раз в неделю в медицинском учреждении. В исследовании эффективности участвовали 224 употребляющих наркотики подростка и их семьи, случайным образом разбитые на две группы. При наборе все подростки отвечали диагностическому критерию злоупотребления психоактивными веществами или зависимости (70 % сообщили о начале приема марихуаны в возрасте до 15 лет), и 78 % из них имели по крайней мере один коморбидный диагноз. Средний возраст участников составлял 15 лет; 80 % принадлежали к мужскому полу; 72 % составляли афроамериканцы, 18% — белые не латиноамериканцы, 10% — латиноамериканцы; средний семейный доход равнялся 11000 — 13000 $ в год, а 41 % семей существовали на социальное пособие. Большинство испытуемых жили в одном из наиболее криминогенных районов Филадельфии. К моменту исследования 75 % подростков состояли на учете в отделе по работе с несовершеннолетними правонарушителями, а 55 % были условно-осуждены. Прием наркотиков по самоотчетам подростков и экстернали-зированная и интернализированная симптоматика, по отчетам подростков и их родителей, оценивались в начале исследования, а также через 6 и 12 месяцев после окончания вмешательства. Хотя в результате реализации обеих программ к моменту окончания вмешательства было отмечено значимое снижение приема наркотиков, экстернализированных и интернализированных проблем, только МСТ, возможно вследствие своей всеохватности и многокомпонентности, оказалась способна поддерживать терапевтический успех после окончания лечения. Многофакторная семейная терапия показала значимо отличающиеся от когнитивно-поведенческой терапии результаты: участвовавшие в первой из них подростки сохранили достигнутые улучшения и после окончания вмешательства. Третье завершенное рандомизированное исследование было посвящено изучению эффективности МСТ в разнообразных полевых условиях как части проводившейся Центром лечения злоупотребления психоактивными веществами программы лечения подростков, употребляющих марихуану, — CYT (Cannabis Youth Treatment — Dennis et al., 2000). Как и в предыдущих исследованиях, МСТ оказала положительное воздействие на наркотизацию и другие виды проблемного поведения, а также способствовала сохранению достигнутых улучшений. В рамках CYT использовалась версия МСТ, предполагавшая 12—15 занятий на протяжении 3 месяцев. В результате число дней приема марихуаны снизилось на 27%; при обследовании через 3 месяца 42% испытуемых по-прежнему воздерживались от приема марихуаны, а почти у 65 % из них за последний месяц не было выявлено симптомов злоупотребления психоактивными веществами. Программа CYT была первым исследованием, в котором рассматривались финансовые аспекты МСТ. Его материалы говорят о том, что по этим показателям МСТ выигрывает сравнение с другими разновидностями амбулаторного лечения подростков. Национальным исследованием улучшений в лечении, NTIES (National Treatment Improvement Study; Center for Substance Abuse Treatment, 1998; Gerstein & Johnson, 1999) — одной из немногих программ, дающих формальную оценку стоимости амбулаторного лечения подростков, употребляющих наркотики, — были получены оценки стоимости амбулаторного наркологического лечения подростков национальной репрезентативной выборкой руководителей подобных программ. Эти данные были использованы CYT как отправная точка для сравнения финансовых показателей пяти использовавшихся подходов (Dennis et al., в печати). Инструментом послужила Программа анализа стоимости лечения подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами, — DATCAP (Drug Abuse Treatment Cost Analysis Program; French et al., в печати). Средние еженедельные затраты МСТ оказались ниже минимальной оценки NT1ES, которая составила 267$ (при средней — 365 $): средняя еженедельная стоимость лечения одного подростка, получавшего услуги МСТ, равнялась 164$. Таким образом, подобные расходы могли быть поддержаны существующим уровнем финансирования (Dennis et al., в печати). В целом три крупных клинических исследования подтвердили эффективность МСТ как метода лечения подростковых наркотических проблем. Данный подход также продемонстрировал способность воздействовать на факторы защиты, вызывающие продолжающиеся изменения в связанных с наркотиками проблемах. Как отмечает С.А.Браун (Brown, 1993), при обсуждении паттерна излечения употребляющих наркотики подростков, вмешательство должно не только доказывать, что с его помощью можно снизить прием наркотиков как таковой, — его эффективность должна также проявляться в повседневной социальной экологии. Свидетельства того, что МСТ способна изменять дисфункциональные семейные взаимоотношения (Diamond & Liddle, 1996), родительскую практику (Schmidt et al., 1996) и влиять на школьную успеваемость (Liddle et al., в печати), показывают ее соответствие теоретическим и эмпирическим критериям эффективности. Этап 7: изучение пограничных состояний и модераторов Плановое развитие вмешательства требует не только оценки успешности лечения данной популяции, но и рассмотрения того, как модель может быть расширена или адаптирована применительно к популяциям, имеющим специфические потребности, отличающимся иным уровнем тяжести симптоматики, не поддающимся вмешательству или оказывающим ему сопротивление. В настоящее время нами проводится испытание трех модифицированных версий МСТ применительно к выборкам, имеющим профили факторов риска, выраженно отличающиеся от тех, что характеризовали предыдущие выборки. Первая из них представляет собой профилактическую стратегию, рассчитанную на младших подростков из группы высокого риска, проживающих в городах (Hogue et al., в печати; Liddle & Hogue, 2000). Вторая предназначена для подростков, имеющих по крайней мере два диагноза (например, злоупотребление наркотиками и поведенческие нарушения) и направленных на лечение в местное медицинское учреждение. Третья является ранним контролируемым вмешательством в отношении употребляющих наркотики подростков (при равном числе представителей мужского и женского пола), имеющих минимальные контакты с правоохранительными органами (средний возраст 14 — 15 лет). Мы обсудим первую из этих новых программ, поскольку она представляет собой профилактическое вмешательство, значительно отличающееся от терапевтических исследований. Адаптация МСТ для профилактики аддиктивного поведения среди младших подростков, входящих в группу высокого риска Основные принципы действия МСТ и важнейшие области вмешательства были адаптированы для создания возрастной экологической модели профилактики употребления наркотиков и отклоняющегося поведения среди младших подростков, входящих в группу высокого риска (Liddle & Hogue, 2000). Существует мнение, что психотерапевтический подход в отношении подростков с антисониапьными наклонностями приносит относительно небольшой успех в силу чрезмерной нагрузки, налагаемой на терапевтов и на системы лечения, а потому профилактика, особенно ранняя, становится привлекательной альтернативой (Reid, 1993). Это мнение подкрепляется обнадеживающими результатами проведения семейной профилактики употребления наркотиков и антисоциального поведения (Ashery, Robertson & Kumpfer, 1998; Hodue & Liddle, 1999; Kumpfer & Alvarado, 1995); наибольшие эмпирические свидетельства успешности были получены для семейного тренинга навыков (Dishion & Andrews, 1995; Kumpfer, Molgaard & Spoth, 1996; McMahon, Slough & Conduct Problems Prevention Research Group, 1996; Spoth, Redmond & Shin, 1998). Однако модели семейного тренинга навыков, как правило, сосредоточивают внимание на стимулировании или усовершенствовании внутрисемейных навыков, таких как умение разрешать проблемы, общение, укрепление семейных связей, установление правил поведения и достижение договоренностей, в связи с чем парадигма семейного тренинга навыков может оказаться не очень пригодной для вмешательства в семейную социальную экологию в более широком смысле: для лечения психопатологий родителей, укрепления социальной поддержки семьи, воздействия на многочисленные социальные контексты, служащие факторами риска для подростков и для семейных стрессов, и привлечения внесемейных ресурсов (Blechman, 1998; Griesr & Forehand, 1982; Prinz & Miller, 1996; Tolan & McKay, 1996; Webster-Stratton & Herbert, 1993). Для детей и подростков, входящих в группу самого высокого риска, возможно, требуется более широкая, всеохватывающая стратегия профилактики, когда поведенческие проблемы находятся еще на начальной стадии (Tolan, 1996), а семьи испытывают наибольший стресс, обнаруживают симптомы дисфункции и пользуются наименьшей социальной поддержкой (Miller & Prinz, 1990). Благодаря включению МСТ в контекст профилактики мы разработали и опробовали базирующуюся на семье профилактическую модель, адресованную младшим подросткам (11 — 14 лет), входящим в группу высокого риска (Hogue et al., в печати). Наша модель отличается от стандартных семейных подходов тренинга навыков в двух отношениях. Во-первых, она имеет гибкий дизайн, позволяющий учитывать индивидуальный для каждой семьи профиль факторов риска и защиты и принимать соответствующие профилактические меры. Работа строится по плану «один на один»: терапевт работает с конкретной семьей, и тренинг навыков является вторичным по сравнению с выявлением идиосинкразии, проблем и целей данной семьи и ее членов. Во-вторых, модель обладает ярко выраженной экологической направленностью: проводится постоянная оценка разнообразных социальных контекстов, в которые вовлечен подросток (семья, школа, сверстники, община), и вмешательство в них в случае необходимости. Особое внимание уделяется уровням функционирования подростка во всех этих системах и знанию о них родителей и их прямому участию в каждой системе. Помогая родителям осознанно действовать в роли навигаторов в расширенной экосистеме подростка, мы стремимся создать более гибкую и действенную семейную среду, которая воспрепятствовала бы формированию антисоциального поведения. Заключение и выводы В данной статье описана экологически ориентированная семейная возрастная всеобъемлющая терапия, направленная на решение связанных с наркотиками проблем подростков. Хотя более подробно теоретические основы МСТ изложены в других работах (например: Liddle, 1999), здесь прослеживается эволюция модели, основанная на предложенных А.Э. Каздином (Kazdin, 1994) принципах развития вмешательства. Такой подход позволил осуществить практические меры, соответствующие определенным стадиям лечения. Исследования проводились в различных условиях, были направлены на разные популяции подростков, злоупотребляющих наркотиками, — выборки, отличающиеся по соотношению полов, по расовым и этническим признакам. Значимо позитивные результаты в снижении приема наркотиков были отмечены и после окончания вмешательства, и при последующих (через 12 месяцев) обследованиях, не требуя при этом поддерживающих занятий. Кроме того, изменения в профиле факторов защиты в жизни подростков и их родителей имеют большое значение, поскольку совпадают с рекомендациями по воздействию на семейное функционирование в наиболее важных областях. Развитие модели в настоящее время происходит в нескольких направлениях. Во-первых, мы продолжаем совершенствовать подходы с учетом различных условий вмешательства и для разных популяций подростков, употребляющих наркотики. В соответствии с этим мы постоянно адаптируем, расширяем и оцениваем эмпирически оправдавшие себя методы применительно к разнообразным условиям лечения. Одной из наших задач в настоящее время является выявление компонентов процессов и исходов при включении МСТ в программу ежедневного лечения злоупотребляющих наркотиками подростков. Мы также изучаем возможности применения подхода в системе медицинской помощи по месту жительства и в связи с этим получаем предложения о сотрудничестве и использовании МСТ в охватывающих целый штат системах лечения подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами. В проектах подобного типа ставятся многие задачи; в их число входят эмпирические исследования, а также вопросы не только адаптации клинических методов, но и подготовки терапевтов и руководства ими. Для удовлетворения этих практических потребностей нами разрабатываются новые руководства и материалы для тренировки. Продолжается также работа над базовыми аспектами модели вмешательства. Ведутся клинические исследования, направленные на изучение комплексных факторов сопутствующих нарушений у подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами (Rowe et al., в печати), и процессов, специфических для девочек (Dakof, 2000). Эти работы вписываются в основную тематику развития лечения. Хотя мы изложили всю эмпирическую историю МСТ с точки зрения развития лечения в соответствии с замечательной схемой, предложенной А.Э. Каздином, мы чувствуем необходимость завершить эту главу напоминанием: мы вполне отдаем себе отчет в том, какую роль в данной области играют определенные ценности. Для нас главной ценностью является постоянная приверженность воздействию на семью и непосредственное социальное окружение подростка, который сбился с пути и катится по наклонной плоскости употребления наркотиков, правонарушений, школьных неудач и распада взаимоотношений с близкими, социального отчуждения. Кроме того, напоминает М.Э. Эдлис и К. Хэтджис, обсуждая политику и проблемы распространения эмпирически действенных видов терапии (Addis & Hatgis, 2000), ценности и практика исследователей не должны ставиться впереди ценностей и практики других людей. Такое напоминание, как и указание на периодическую оценку предпосылок любой исследовательской программы, представляется уместным при завершении обзора наших попыток разработать эффективный метод вмешательства, направленного на разрешение проблем, связанных с употреблением наркотиков подростками. Другие интересные материалы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||